|
Эпоха застоя
«Старше на целую войну…»Я ещё помню как в прессе вторым названием «Застоя» было слово «геронтократия». Власть «стариков», не «отцов» (это место можно занять и в 30 и в 20 лет, если заслужишь), а именно стариков», власть одного особенного поколения. Это те, кто «вынес на своих плечах все тяготы Войны», будучи ещё совсем молодыми людьми, а главное, те, кто выполнил львиную долю неимоверной работы по послевоенному восстановлению. Не взялся бы утверждать, что было более трудным делом, но догадываюсь, что именно второе. Я говорю, прежде всего, о поколении во власти. На них была возложена огромная ответственность, и тот, кто возложил её, сошёл в могилу не скомандовав «вольно!». Они так и умирали на своих постах, потому, что нельзя уходить пока «не всё ещё сделано». В этой генерации выходцев из деревень и рабочих посёлков был своеобразный аристократизм, по крайней мере, такие черты как мужество и верность. Верность стране, долгу, слову (простите за пафос). Беда только в том, что этот аристократизм был не отрефлексирован, не осознан как некое обязательное условие для претендентов на сколь либо заметное место в обществе. Возможно потому, что их добродетели выковывались в страшных горнах, и, быть может, против их воли. Они оставили очень слабых, недостойных и «перемаринованных» на третьих ролях наследников, которым не смогли объяснить, что шикарную (хотя, какой уж у них в домах там был особенный шик) по советским меркам квартиру директор должен въезжать, после того как завод построен, а не до. Что в «элитный» санаторий нужно ехать из-за настояния врачей и после второго инфаркта, а не каждый год по два раза. Впрочем, не просто не смогли: они так и не считали, «дети должны жить лучше нас», не правда ли? А кем и какими будут эти «дети», это ведь слишком сложный вопрос. Да и почему они должны быть хуже? «Разве их плохому учили»? Этакий гуманистический оптимизм в отношении человеческой природы, вызванный, невежеством «элиты в первом поколении». Те, кто, напротив, впадал в «мизантропический пессимизм», взирая на обывательскую мелкотравчатость следующих генераций, были не правее и не мудрее своих оппонентов, ибо воспринимали как катастрофу то, что является трудной проблемой. Поколение, которое за четыре года стало «старше на целую Войну», так и не научилось смотреть серьёзно на тех, кто шёл за ними. Не научились «старики» и спрашивать с «детей» по-настоящему, так, как спрашивали с них. Они вообще построили мир, в известной мере противоположный, тому, в котором начиналась их жизнь. Построили не только для себя (что было бы объяснимо: усталость, возраст), но и для других, по принципу «не дай вам бог испытать того, что выпало на нашу долю». 
Им приходилось с малолетства отвечать по самой строгой мерке. – Они ввели порядок, при котором человек до 40-ка считался «молодым специалистом», часто без карьерных перспектив, зато с правом на некоторое шалопайство. (Разве это не мечта современного человека, молодость до сорока? Круче только молодость до пенсии.) Им довелось жить в условиях глубокой имущественной дифференциации (мало кто задумывается от том, насколько далеко было сталинское общество от «уравниловки»). – Они построили общество, где каждому полагалось 120-300 руб. и надеясь, что это приведёт к тому, что лишённый страха перед нищетой и голодом и не стремящийся к невозможной роскоши человек будет трудится не за страх, а за совесть. Они помнили, сколько сил требовалось в полуголодное время на поддержание имперского блеска позднего сталинизма, от золотого шитья мундиров до пышной архитектуры «высоток». – Они породили нарочито неказистый утилитарный стиль пятиэтажек и мебели из ДСП. Так старик надевает с костюмом войлочные «прощай молодость», ибо «ноги должны быть в тепле, а баловство нам ни к чему». Им приходилось начинать в условиях жесточайшей конкуренции, где на кону была не карьера, а жизнь. – Они создали мир, где карьерист становился фигурой смешной и жалкой: работать за троих, интриговать, жениться по расчёту, лизоблюдствовать, что бы в результате не получить ни настоящей власти, ни громкой славы, ни больших денег. Их жизнь не раз висела на волоске. – Они, кажется, так и не поняли, что люди не пережившие этого ада, просто не могут так же как они ценить возможность просто жить, ходить на работу, растить детей. Они не поняли и не приняли в серьёз запросы последующих поколений. Они работали под прессом строжайшей личной ответственности. – И создали систему сложного распределения полномочий, коллегиальной ответственности, когда появление проблемы часто приводило к созданию комиссии под руководством того, кто был виновен в возникновении этой проблемы. Послевоенное время – это трудные задачи, жесткие сроки, изматывающий ритм. – Всё больше становилось сфер деятельности, где казалось, что одно из основных прав советского человека посидеть четверть часика, отдышаться, употребить валидолу. «Главное не нервничать», - словно было написано над страной. Только в этот период могло стать общеупотребительной практикой сокрытие до последнего страшных диагнозов. Они выросли в эпоху, самый воздух которой был насыщен культом героев. – Когда пришло их время, пропаганда перестала поднимать на щит тех, кто мог укорить, обжечь своим совершенством «честного труженика», мирного обывателя. Всё это по отдельности не было так уж опасно и тем паче не было чем-то необоснованным, «вредительским». Историческая усталость – штука, с которой приходиться считаться. И навешивая ярлычки типа «разложение», «обуржуазивание», вряд ли что-то можно объяснить. В конце концов, я не верю во всеобщую перманентную мобилизацию, в нескончаемый порыв и в прочие мечты «юношей бледных со взором горящим». Беда в другом, в том, что «элита в первом поколении» оказалась просто не в курсе того, что знает всякий, за кем стоит хоть какая-нибудь традиция: мир как не-война не является самостоятельной ценностью, это пустота, вакуум, который надлежит насытить новыми смыслами, целями, идеалами. И просто «честным трудом», «мирным небом над головой» и лояльностью эту пустоту не заполнить…. Кресло-кровать и русский педантизм
Сейчас таких много в сети (см. ставший довольно известным пост в блоге kommari), «совьет экзотик». Кто-то ностальгирует, кто-то ужасается. Почти все сходятся на том, что это «дела давно минувших дней». Меж тем, не совру, если скажу, что очень много наших соотечественников живут как раз в таких квартирах, с такой же мебелью. Любому из тех, кто уверен, что эти интерьеры встречаются только в музеях и в жилищах старожилов (если, конечно, вы не обитатель «элитного жилого комплекса» или «коттеджного посёлка»), можно подняться или спуститься на этаж-другой и наглядеться этой «экзотики» без всякого интернет-трафика. Просто в сети жильцов таких квартир немного и ведут они себя скромно. Впрочем, это уже отдельная тема, а я о другом… Что, на мой взгляд, самое характерное в убранстве этих позднесоветских комнат: это спальни, которые каждое утро превращались в гостиные. 
Советское государство расплачивалось со своими гражданами за труд (а не раздавало бесплатно, как некоторым кажется) квартирами, в которых были предусмотрены (преимущественно) ванная-туалет, кухня и спальня (и). Не могу осуждать его за это: нет у меня уверенности, что при другом сценарии русской истории большинство русских реально жило бы богаче и просторнее. Рад бы иметь такую уверенность, но нету. Зато в худшее верю легко. Итак, положены были санузел, пищеблок и койко-место, а хотелось – Свой Дом, что бы там жить, а не просто ночевать, и что бы в Дом приходили гости, и что бы было, где их достойно принять. Изрядно есть в мире тех, кто скажет, что если бы не потакали мещанству, обитали бы в бараках-коммунах и «жили бы интересами коллектива» — «до сих пор были бы великой страной». Мне эта точка зрения не близка, хотя не отметить того, что именно в те годы «достоинство» начало «рифмоваться» с «достатком» не могу… Я знал семьи, где люди жили «друг у друга на голове», единственная комната вечером превращалась в сплошное спальное место: диван-кровать, кресла-кровати, раскладушки, матрасы на полу… Но, в 7 утра раскладушки исчезли, а кровати превращались в диван и кресла, модный торшер и журнальный столик занимали свои места. «Бедновато, конечно, но чистенько» и не без претензии – в общем, есть куда пригласить добрых знакомых. Тогда ведь ещё ходили в гости, так как же без гостиной? Да и с работы многие возвращались часов в 6 вечера и даже ранее (не потому, что мало работали, просто начинали в 8 утра), где провести вечер, среди смятых простыней? 
Кровать как таковая была чем-то почти неприличным, что, впрочем, объяснимо, если вспомнить, что незадолго до того окончилась эпоха панцирных коек с пирамидками подушек на них. Даже в многодетных семьях почти не встречались двухъярусные кровати – им ведь не придашь приличный вид… И в этих каждодневных спортивных упражнениях с мебелью (сначала до щелчка от себя, потом с силой на себя, потом наоборот) мне видится какое-то «самурайство» и мужество и достоинство, и та самая «честная бедность», на которой всё и держится. 
Я вспоминаю как лет десять с чем-то назад, в самое гнилое и безнадёжное время я с каким-то страхом смотрел на тётку лет пятидесяти, торговавшую в электричке дверными ручками. Этими ручками ей на работе заплату выдали, было тогда так принято, «бартер». Идёт она с этими нелепыми ручками по вагону, говорит что-то про свой завод, а в лице такое… И безнадёжность, и унижение, и усталость, и «хоть бы сдохнуть», и «хоть бы сдохли». Ведь человек с таким лицом имеет право на всё, например, пустить под откос эту электричку. А эта тётка пятидесяти с лишним лет с тридцатью, поди, годами трудового стажа, заработавшая баул дверных ручек, ничего такого не сделала, и я благополучно добрался в свой НИИ (где не платили даже ручками, но у меня-то были выбор, молодость и надежда)… Я почти уверен – она каждое утро совершала этот ритуал преображения жилища и так же делали другие, и их было много; может, страна потому и выжила… Смешно? А вдруг и правда потому? Со стороны это, может, выглядит глупо, но для меня эти советские кресла-кровати символ того, что якобы не существует: русской воли к порядку и даже русской педантичности. Сначала до щелчка от себя, потом с силой на себя или наоборот… P.S.: Впрочем, что бы градус пафоса снизить и от реальности не отрываться, дам ещё один штрих. Знакомая рассказывала: она с мужем к сорока годам обрела свою квартиру (наследования, обмены, доплаты, кредиты, не важно), где была настоящая спальня, первая в её жизни. И купили они кровать во всю спальню. «Легла я на неё и почувствовала – спина-то у меня изувеченная и похоже уже навсегда». Такие дела…. Работа и отдыхПрислушайтесь: «Работа и отдых» «Как советский человек работает и как отдыхает?» «Всё ли есть у трудящихся для работы и отдыха?» «Мне вообще, дадут отдохнуть после работы или нет?!» В принципе, ничего нового, специфически советского в таком двухчастном делении жизни на «работу» и «отдых» нет. Индустриальная эпоха сделала две вещи: угробила натуральное хозяйство и, как следствие, разделила сферу труда и сферу быта. Теперь каждый или почти каждый из нас вынужден проживать две и более отдельных жизни, последствия это всё имеет огромные, например, бьёт по семье и на демографию это обстоятельство влияет куда более сильно, чем пресловутый гедонизм. Если раньше воспитание и социализация детей происходили в ходе их совместного с родителями труда на благо семьи, то теперь это совершенно отдельные и во многом не контролирумые старшими процессы. СССРовский опыт здесь выделяется только в одном: советский гражданин есть, прежде всего, трудящийся (подобно тому, как западный, прежде всего, налогоплательщик). Как следствие, не только трудовая, экономическая активность, но и вся (или почти вся) социальная жизнь человека стала протекать в рамках трудового коллектива: Летний детский лагерь? – При заводе. Выйти на дежурство в составе «народной дружины»? – От цеха. Обсудить поведение «пьяницы и дебошира»? – На товарищеском суде в фабричном актовом зале. Стенгазету нарисовать? – По поручению бригады. Санаторий? – Наш, отраслевой! Купить дефицитные продукты или товары? – От профкома. 
Казалось бы, (в теории, оторванной от жизни) «алкаша» пристыдить лучше, собравшись подъездом, «ДНД» организовать во дворе, стенгазету выпустить для соседей, да и учреждения пионерлагеря нет особой нужды создавать при отраслевых министерствах и промышленных предприятиях. Но фактически советский период стал временем, в котором община исчезла окончательно. Тому, на мой взгляд, есть две группы причин: 1. Нежелание власти: тут и идеологические установки «государства трудящихся» и прагматические соображения, ибо любую активность легче канализировать под началом руководителей, являющихся государственными служащими. 2. Неготовность общества: 1) В России никогда не было единого «третьего сословия». Соответственно и невозможна западная территориальная «коммуна», объединяющая людей разных социальных слоёв (исторически – в противостоянии феодалу). Призывающие обратиться к опыту крестьянской общины, всегда забывают, что она была именно крестьянской, т. е. моносословной. Русский человек зачастую предпочитает общаться с людьми близкими ему по образу жизни, профессиональной принадлежности, социальному статусу, уровню дохода. Т.е. скорее с «членом трудового коллектива», чем с соседом. Это отрезает его от тех выгод, которые сулит взаимодействие с представителями других социальных групп, обладающими ресурсами и возможностями превосходящими его собственные или дополняющие их. Но ведь речь идёт о взаимо-действии, а мы за проходной не действуем, мы отдыхаем. К тому же, нет нужды мириться с неравенством, возникающим в ходе такого взаимодействия. Так причудливо сплелись наследие сословного общества и новации социалистического строя. 2) Предположим, что власть, скажем в 60-е годы, озаботилась бы задачей воссоздания (или создания) территориальной «коммунити». И что? Тихомиров писал: «У нас никто не живёт в доме своего деда, потому, что ещё при жизни деда этот дом три раза сгорел». А много ли у нас к тому времени было тех, кто жил пусть не в доме деда, но в том же населённом пункте, на той же улице, что и его дед? А оба деда? Община не создаётся в одночасье, это процесс долгий. Грубо говоря, для этого нужно хотя бы три поколения живущих бок о бок нескольких (минимум) семей: Первое, «деды». Почтенные старики, для которых всегда отрыты двери магистрата, которым козыряют околоточные, с которыми раскланиваются торговцы. Второе, «отцы». Те самые чиновники магистрата, околоточные, торговцы, ремесленники и т. д. Уважают «дедов», держатся вместе, охотно роднятся, протежируют местным, не любят чужих. Третье, «дети». Молодежь и подростки. Наиболее крепкие составляют негласную «гражданскую гвардию», способную объяснить любому чужаку (если очень нужно, то и «своему») почему и насколько сильно он не нравиться «коммуне». «Научают» их поступать таким образом «деды» (почтенные граждане, столпы общества, вне подозрений). Дело «отцов» закрывать глаза, или, в крайнем случае, прикрыть «шалости» молодёжи. Например, протокол составить: «Труп, найденный в овраге, принадлежал бродяге. Многочисленные повреждения, получены им в результате падения с обрыва, в состоянии глубокого опьянения». Наша ситуация и близко не позволяет надеяться на создание в реальном времени общинных структур в вышеупомянутом смысле. Именно из-за отсутствия десятилетиями живущих рядом и взаимодействующих друг с другом родов. Русский человек последние 150 лет – это трудовой мигрант. Промышленный рост второй половины XIX века, столыпинское заселение Сибири, потом гражданская война, коллективизация, новый исход в города, Великая Отечественная, беженцы, эвакуация промышленных предприятий вместе с персоналом на Урал, освоение целины, ударные стройки, заселение и индустриализация национальных окраин, принудительное распределение специалистов… Список можно продолжать. Возвращаясь к теме: двухчастное деление жизни на «работу» и «отдых» в период мобилизации национальных сил означало, что государство-работодатель вправе требовать от гражданина-работника полной отдачи, но взамен обязуется предоставить возможности для хотя бы частичного восстановления сил. Во времена поспокойнее картина менялась на прямо противоположную: всё, что не работа – всё отдых. Ни семья, ни общество, ни государство не в праве требовать от индивида, вышедшего за проходную, никакой созидательной активности, она остаётся целиком его усмотрение, её отсутствие ни при каких обстоятельствах не должно быть поставлено в вину, «отдыхает человек, чего пристали?!». Утрирую, но примерно так. Даже эстетика была заточена с учётом этой реальности. Посмотрите на парадные фотографии улиц и площадей, особенно сталинского периода: курортный стиль, сплошной ЦПКиО. Накрывшая Россию ещё до войны волна разводов на этом фоне выглядит вполне логичной: странно проводить время, отведённое на отдых с человеком, который тебе неприятен или исповедует чуждые тебе взгляды на досуг, не правда ли? Кстати, установка на то, что вся или почти деятельность должна проходить в рамках рабочего места, классно ложится на новую, рыночную реальность (всевозможные «концепции 24/7» и т. д.) Потрудился на работодателя и свободен, это твоё время и ты вправе проводить его так, как тебе нравится, и никто не смеет этому мешать. Впрочем, это уже другая история… Прямая и явная проповедь добра
Была в «Застое» такая особенность, которую я не хочу оценивать ни с точки зрения причин ни с точки зрения последствий: слишком она меня завораживает. Пропаганда доброты. Открытая, беззащитная, прямая. И в то же время использующая самые убойные средства: кино, эстрада, мультипликация… Ярко солнце светит, Ну, о советских мультфильмах, думаю, уже всё говорено-переговорено. Полагаю, даже написаны статьи, в которых кот Леопольд объявлен главным диверсантом против воинственного духа наших соотечественников. Просто обязаны быть написаны. Но и для тех, кто постарше находились слова, которые до сих пор могут тронуть: Ах, сколько будет разных И совсем по-взрослому: Ты заболеешь — я приду, 
Я застал тот год, когда эта песня звучала над всей страной. Не «из каждого утюга», а именно над. Не то что бы она была суперталантлива или попадала в десятку относительно тогдашних трендов. Не могу сказать и то, что она, например мне как-то особенно нравилась. Но она огорошивающе прямо говорила о том, что искренность выше цинизма, жертвенность достойнее гедонизма, а обман ничто перед правдой. И на три минуты против этого никто не возражал. Ещё был кинематограф, целая армада мелодрам и «лирических комедий» во главе со своим флагманом – незабвенной «Иронией судьбы». Сколько о ней написано в прошлые годы, сколько в нынешний (в связи с премьерой «…продолжения»), сколько ещё напишут. Сколько раз картину называли то гимном, то приговором пьянству, инфантилизму, «совку», интеллигенции и т. д. Сколько людей продемонстрировали хороший вкус, сообщив миру и граду, что их тошнит от этого фильма, как и от салата «оливье» и советского «шампанского». Сколько высказалось на тему «Лукашин – не мужик» («Невзрачный, слюнявенький, подслеповатый, как вылезший из своей норы крот, Мягков человека современного, конечно, раздражает»). Какая куча народу оттопталась на ритуальном «обывателе», которому «это всё может нравится». А фильм-то жив хотя бы в силу того, что это достойный пример урбанистической романтики, которая раскрывает красоту и даже волшебство неуютного зимнего города панельных ульев. Но главное – там все добрые (звучит придурковато, я понимаю). 
То есть они, конечно, причиняют друг другу разные неприятности, но не у кого и в планах нет «злого умысла», сектор головного мозга, где он мог бы зародиться, отсутствует. Для героев этого мира не существует «права сильного», отсутствует позиция «я Д’артаньян, а ты грязь из-под ногтей» не только как ментальная, но даже как лексическая конструкция, они вообще не едят людей, чудаки. Скажем, первая встреча Ипполита и в дребадан пьяного Жени. Что, например, стоит цивильному, обеспеченному (владеет авто), не особенно обременённому интеллигентским багажом («Чьи это стихи?» — Ещё бы спросил, кто «Му-му» написал.) морально опустить, да просто вышвырнуть беспомощного «лузера»? А героине, соответственно, благодарно прильнуть к победителю. Нет, Ипполит впадает в истерику, он встречается с невозможностью коммуникации с «пьяным чмом» на равных, а другого способа общения правила этого заэкранного мира не предусматривают. В результате, Ипполит напивается сам). При этом, фильм, кстати, никак не гимн пьянству (и не антиалкогольный памфлет), все его герои (исключая разве что персонажа Г. Буркова) пьют с той степенью беззаботности, словно они совсем недавно познакомились с этими удивительными напитками, и бутылку видят не чаще раза в месяц. Впрочем, оставим «Иронию…» в покое, без меня кинокритиков много. Что для меня особенно важно, постепенно о доброте стали говорить в связи с темой экологии. Примерно так: 
Снимок, кажется, наших дней, но что-то подобное я видел в начале 80-х. Разрушение природы стало трактоваться как жестокость. Во многом с подачи «деревенщиков». Так же начала восприниматься вся политика по разрушению старого уклада. Если представить, что эта линия могла иметь продолжение, можно с уверенностью говорить об упущенном шансе… Была ли такая «пропаганда доброты» результативной? Не знаю, смотря что считать результатом в таком не бывалом деле. Кажется, был год 85-й, когда я услышал по радио передачу, где с тревогой говорилось о том, что при опросе родителей в московских школах менее четверти из них указали доброту в качестве того свойства, которое они хотели бы прежде всего воспитать в своих детях. Большинство упирали на интеллект, энергичность, «умение постоять за себя», да… Хотя, целая четверть матерей озабоченная тем, что бы их дети были добры, а не тем, что бы у них поскорее выросли клыки или панцири, разве это мало? В общем, «сложно всё». Повторюсь, я в этом случае наблюдатель не объективный. Лучше покажу, как постепенно это становилось смешным. Перескажу вам фельетон, опубликованный в «Крокодиле» в году примерно 1984-м. Итак: Снималось на одной студии два фильма, на завершающей стадии стало понятно, что они настолько похожи, что выпускать их в прокат одновременно невозможно, ибо оба насыщены одинаковыми шаблонами и штампами «лирического кино». И только искусство работниц монтажа, которые обменялись некоторыми фрагментами (благо артисты в фильмах играли одни и те же, ха-ха), спасло обе картины. Ничего особенного, несмешной фельетон о поточном производстве и коньюктурщине в киноиндустрии. Примечательно другое: фильмы там назывались «Отдай сердце ближнему» и «Мы все хорошие люди». Что-то мне подсказывает, что для нас, господа, уже никто и никогда не снимет фильмов с такими названиями, просто потому, что не понадеется «затронуть струны души». И это, по моему скромнейшему мнению, довольно паршиво нас рекомендует… Научно-производственный кинематографХочется рассказать о советских «художественных фильмах на научно-производственную тему». Мало кто помнит их названия, от них не осталось нарицательных персонажей, они не стали источником анекдотов или поговорок. В конце восьмидесятых этот жанр был похоронен, на могиле сплясали джигу и написали на камне большими буквами «СЕРОСТЬ». Этих фильмов (за исключением нескольких картин) вообще как бы не было. А меж тем, они – были. Вообще-то под маркой «научно-производственный кинематограф» я объединяю довольно разные картины: 1) Собственно кино про науку и «людей науки». Выдающийся образец – «Девять дней одного года» 
2) Отдельно – фильмы-биографии (Туполева, Патона, Королёва и т. д.). Пример – «Талант» (хотя герой там и вымышленный, но существовали люди, послужившие прототипами). 3) Собственно фильмы про производство. Смотрел много, но, честно говоря, ни названий, ни сюжетов не в памяти не осталось. При том, что, кажется, да почти уверен – «в них что-то было», для меня, по крайней мере. Нашёл вот в сети «Здесь наш дом», «Назначение». 4) Отдельно – «административно-производственные драмы». «Премия», «Мы, нижеподписавшиеся». Описывать бесполезно, кто видел, тот понимает, актёры сильнейшие, кстати. 5) «Просто кино» (в основном мелодрамы) о жизни учёных, инженеров, конструкторов, вообще «людей образованных». Неброский, но выразительный колорит, чуть пижонский юмор, часто довольно тонко и свежо. Вспоминается «Июльский дождь», «Еще раз про любовь» (линия персонажа Лазарева-старшего), «Кто поедет в Трускавец», не как примеры «раскрытия темы» (она там иногда была чуть намечена), а в качестве образцов стиля. 6) В рамках авторского произвола выделю в отдельную категорию «производственные сериалы», т. е. «многосерийные художественные фильмы» соответствующей тематики, настоящие саги эпохи НТР. Ни одного названия не помню, но точно помню, что они были. Даже составили целый жанр, со своими устоявшимися, почти как в комедии «дель арте», масками-амплуа (карьерист-интриган, «враг нового», ершистый молодой новатор, разочарованный всёзнающий спец и т. д.). В одной картине про завод уже начала 80-х два молодых инженера переговариваются: — Ты сериал смотришь на производственную тему? — Смотрю… — Ну, и что там должен сделать отрицательный герой, раз уж я нахожусь в его положении? Герои одного фильма обсуждают другой аналогичный фильм, «змея кусает себя за хвост». Сериалы в те, мхом забвения поросшие годы показывали по одной серии в неделю, например, каждый четверг, в 19:40 и несерьёзные, по нынешним временам, 5–10 серий становились фоном для целого «куска жизни». Здесь я говорю, прежде всего, о фильмах, попадающих в последние две группы и снятых именно в 70-е. Для кого-то запредельный концентрат скуки, а меня они чем-то с малолетства «цепляли», чем именно сходу не объясню. Нельзя сказать, что бы они были как-то особенно занятны с точки зрения сюжета, или, скажем, там так «сочно» показывали красоту воздушных кораблей, сборочных цехов или доменных печей, что с ума можно было сойти. Всё было обыденно: герои росли, получали образование, приходили в лаборатории и на заводы, делали гениальные или не очень открытия, входили в конфликт с коллегами-завистниками и начальниками-ретроградами, непременно оказывались перед трудными нравственными дилеммами и с честью находили выход, ну и, иногда, немножко женились или увлекались чем-нибудь типа рыбалки или коллекционирования. Откуда-то из дальних чуланов памяти выплывают сцены: По огромному, неправдоподобно огромному цеху идут два человека, облачённые в серые деловые костюмы и оранжевые каски. Их походка быстра, лица напряжены, руки нервно сжимают свитки чертежей. — Николай Михайлович, я не могу это подписать! Несущие конструкции недостаточно испытаны! Вы понимаете, чем это может грозить?! — А Вы понимаете, что это означает перенос ввода в эксплуатацию ещё на полгода?! Вы понимаете, чем это нам может грозить, когда об этом узнают в министерстве?! Или ещё. Комната, в ней мужчина и женщина. Она, бледная, с тонким лицом, стоит, скрестив руки, у окна или курит, сигарета в нервных пальцах. Он бегает по комнате, ерошит свои волосы, время от времени дергает и без того ослабленный узел галстука. — Вадим, это, наконец, просто гадко! Ты должен пойти и всё рассказать Алексею! — Что? Что рассказать?! Что я семь лет назад просто украл результаты его экспериментов, а потом сказал, что опыты были проведены с нарушением технологии? А ты помнишь, что через месяц после этого умер академик Сидоров? Говорят, его подкосило известие об этой неудаче, он решил, что его теория, над которой он работал всю жизнь – ложна. Это, конечно, бред. Умер он не от этого, он был просто стар. Но ты понимаешь, что все меня, меня, понимаешь ты это, будут винить в смерти учителя? И вот теперь ты хочешь, что бы я пошёл к Алексею и всё ему рассказал? Странно, что ты не советуешь сразу сброситься с моста… И это тогда, когда до защиты диссертации осталось две недели и в главке рассматривают мою кандидатуру на пост замдиректора?! Чёрт с ним с постом, ты знаешь, Таня: я всегда презирал карьеристов [камера показывает крупным планом глаза героини в них недоумение и болезненное презрение]. Но мне ведь жить не дадут. Меня ведь съедят! — «Жить»?! Саша, с этим ты жить можешь?! [Собирает чемоданы] — Таня, куда ты? — К маме. Я устала мириться с этой ложью. Я так не могу. [серии через три Таня и Алексей, которому бесчестный Вадим был «должен всё рассказать», поженятся, ещё через две Таня защитится или родит ребёнка] Диалоги я, конечно, додумал, это «реконструкция». Малость утрированная, но не сильно. Конфликтные линии были именно такого рода. В общем-то, с некоторой точки зрения, это было «мыло», суровые северные «мыльные оперы» на фоне цехов и синхрофазотронов. Сдержанно так снято, не ярко, по-семидесятнически, «почти как в жизни»: те же интерьеры, те же типажи, та же пластика (в отличие от заострённой «плакатности» сталинских фильмов, которые в те годы я смотрел без отвращения, но с чувством неловкости). Сейчас, впрочем, уже многих деталей не вспомнить, да и спросить толком не у кого – мои сверстники, во всяком случае, мне не помощники. Как-то их это, похоже, не увлекало. А мне, повторюсь, нравилось. Мне кажется сейчас, что в фильмах этих, в ритмике раскадровки, в индустриальных пейзажах, в негромких голосах была какая-то музыка, а больше мне и сказать нечего. Да и ещё (совсем уж мемуарное): в 9 лет я мечтал стать авиаконструктором, и продолжал бредить самолётами лет до четырнадцати (перемежая это дело увлечением историей), а фильмы такие подтверждали – да, это что нужно, этот мир, мир КБ, НИИ и заводоуправлений вполне по мне. И ведь не ошибся: попав в середине 90-х в один НИИ, быстро почувствовал себя «среди своих»; с тех пор много чего изменилось, и профессия и место работы, но дружба со многими, уже бывшими, коллегами жива… Так вот, когда мне было 9 лет, трепались мы с приятелями во дворе на тему «кто кем станет» и один парнишка сказал, что конструктор – это скучно, у него папа инженер и ничего хорошего, лётчик интереснее, а ещё лучше пират или вообще индеец, только жалко, что их больше нет и никогда не будет. В тот год, когда мы окончили школу, ремесло конструктора было уже совершенно не актуально, а вполне себе «пираты» вовсю бороздили улицы на чёрных «мерсах». «Вот такой оборот…» Поэма без герояЕщё одна особенность «Застоя» — минимальное количество ярких персонажей на всероссийской сцене. Да и сама сцена, где некогда вниманию почтенной публики предлагались хорошо отрежиссированные и, порой, кровавые ристалища: политические драмы о низвергнутых с вершин власти троцкистско-зиновьевских «паладинах», творческие споры и даже научные дискуссии, наподобие борьбы «лыснековцев» с «вейсманистами-морганистами», как таковая была демонтирована. Нет, конечно, о достойных людях писали, снимали и т. д. Раскроешь газету, а там – бригадир монтажников, 115% плана или слесарь-инструментальщик, 121%. Реже учёный или инженер, тоже с процентами перевыполнения. Иногда просто хороший человек, лесник, учитель или ветеринар, уже без акцента на результаты соцсоревнования. Совсем редко военный. Каждый день новый персонаж, исчезающий из памяти раньше, чем перевёрнута страница газеты, никаких «культовых фигур», никаких «политических тяжеловесов», почти никаких «звёзд». Всё по-своему даже целомудренно, без «сотворений кумиров». Разительное отличие от сталинского конвейера героев на любой вкус: герои-трактористы, герои-лётчики, герои-папанинцы, герои-директора, герои-шахтёры, герои-профессоры, герои-чекисты, герои-конструкторы… По понятным причинам некоторые персонажи бесследно исчезали, но много было и таких, кто оставался «на волне» продолжительное время, обозначая тон, стиль, мелодию эпохи, придавая ей выразительное и живое лицо. Оставим в стороне вопрос дружелюбным было это лицо или зловещим. В период «застоя» почти всё это роскошество попало под «сокращение штатов». Только вот потребность в определённых людях-символах, стержневых образах, представляющих страну и эпоху никуда не делась. Если этим не занимается пропаганда, её заменяет молва, как и повелось от начала времён. Наверное, эти типажи можно «свести в таблицу»: Государственный муж, Военноначальник, Гусар, Учёный, Старейшина, Администратор, Мудрец, Богатырь, Маг и т. д. Наверняка все эти персонажи восходят к каким-либо архетипам. Условный пример: Сталин, Жуков, Чкалов, Мичурин, Калинин, Каганович и т. д. И калейдоскоп одинаково плохо прописанных «простых тружеников» их никак не заменял. Герои нужны не для того, что бы с них «жизнь делать» (о чём ниже). Значимей другое – как-то А. Битов неожиданно хорошо сказал примерно следующее: что-то важное мы делаем вместе в своей стране, наверное, переживаем собственную историю. Так вот герои, кумиры, гении, авторитеты, год за годом сохраняющие своё значение – это бьющиеся жилки на теле нации, само существование которых говорит: мы живы, мы вместе. Конечно, важно какое «послание» заключено в образах этих людей, но отсутствие их как явления приводит к утрате способности к «коллективной эмоции» (или её переориентации на заведомо недостойный объект), к омертвению национального чувства, провоцирует пресловутые «отчуждение и атомизацию» в обществе. Исключения были редки, и с блеском подтверждали общее правило, например, был игрушечный культ «дорогого Леонида Ильича», неустанного труженика, видного деятеля международного коммунистического движения, выдающегося теоретика марксизма-ленинизма, крупного военноначальника и талантливого писателя, многозвёздного, как коньяк… 
Хороший был человек, но заслуги имел несколько отличные от вышеперечисленных. Ну, и ещё, конечно, были широко оглашаемы списки членов Политбюро и ЦК, все эти «товарищи Воротников, Слюньков, Маслюков, Алиев…». Но это так, в порядке открытости. Почему же происходило это вымарывание ярких образов с полотна времени, превращения его во что-то без-ликое, а значит и без-Образное? Рискну сделать несколько предположений о причинах: Во-первых, всё тот же фактор надсадившегося поколения. Герой – дитя трудностей и риска, а значит – беды. А беда – это плохо, от неё болит сердце. Нормальная, обустроенная мирная жизнь воспитанных, здоровых и ответственных людей вроде бы не нуждается в героях. А ведь «старики» хотели отстроить именно такую жизнь и верили, что это им в принципе удалось. Второе. Наличие безусловных лидеров, ярких персон, разогревает конкуренцию, несущую опасность воцарения атмосферы, воспринимаемой как «нездоровая». Важнее достойный средний уровень, и можно обойтись без «чемпионов». Третье. Соображения общественной безопасности. Само существование во власти, политике, экономике, идеологии фигур, обладающих значительным и общепризнанным весом и влиянием – это угроза. Люди честолюбивы, и в кризисной ситуации у каждого из этих «титанов» будет огромный соблазн конвертировать репутацию во власть или, по крайней мере, поучаствовать в её переделе. Кстати, так и получилось: например, Николай Травкин, номинальный застрельщик бригадного подряда в строительстве, единственный раскрученный пропагандой до почти-стахановской известности, даже упомянутый в школьном учебнике современной истории, стал основателем Демократической партии России (её, к слову, собирались назвать Народной Антикоммунистической). Так что, в общем-то, логика понятная, но то, что режим, основанный двумя не последними гуманитариями, к финалу своего существования подошел, не имея «в строю» ни одного популярного, «боеспособного», самостоятельного и при этом востребованного властью интеллектуального авторитета, это полный провал. Четвёртое, посложнее. Возвращаясь к теме “Герои нужны не для того, что бы с них «жизнь делать»”. Советская власть (несколько утрирую ситуацию) всегда колебалась в вопросах воспитания подрастающего поколения и жизнеориентации взрослых: кто же нужен – «дерзкий мечтатель» (в рекомендованных свыше направлениях) или «рядовой труженик». С одной стороны – «небывалые возможности», «творческий порыв», «каждый, в ком “сидит” Рафаэль, получит возможность беспрепятственно развивать и раскрывать свои дарования». Мне рассказывали, что в 60-х одна учительница в дневнике школьника сделала тревожную запись для родителей «Ваш мальчик не мечтает!». Ещё бы, пионер должен мечтать: «я стану космонавтом и полечу на самые далёкие планеты», «я стану врачом и придумаю лекарство от всех болезней». Но с годами мобилизационная результативность Мечты всё больше ставилась под сомнение. Времена первопроходцев прошли, первый спутник взлетел, новые прорывы либо вовсе не планировались, либо происходили под грифом «секретно», пришёл черёд рутинной работы и «рутинных» людей. «Мечтатели» трудно смирялись с ролью «простых честных тружеников», им виделось в этом что-то вроде «принудительного обмещанивания». В традиционном, тем паче сословном, обществе эта проблема почти не стоит: герой это символ величия и достоинства страны, народа, иногда – нравственный камертон, а жизненный сценарий даёт семья, община. Но снижение роли семьи, уничтожение общины, отмирание многих коммуникационных каналов породило вакуум, который заполнялся образами из газет, кино, телевизора. Поди теперь объясни советскому человеку, почему в мире, в котором он живёт, нельзя стать ни Жуковым, ни Че Геварой, ни даже Чкаловым. Не все хотели с этим мириться. Младший лейтенант Ильин (покушавшийся на Брежнева Л.И.) вспоминает: «Помните, как мир бурлил в 60-е? И Запад, и Восток и Север, и Юг бурлили, заговоры, перевороты, революции! Хотелось жить интересно!» Свой бессмысленный мятеж поднял на эсминце «Сторожевой» капитан 3 ранга Саблин. Помню статьи во всяких молодёжных журналах типа «Техники-молодёжи» о том, что «на глобусе не осталось белых пятен» и потому многие испытывают кризис, т. к. «не к чему стремиться», но унывать нельзя, есть же ещё неизведанные области, например, в микробиологии, что-то в этом духе… Особенно важно было «правильно сориентировать» молодежь, пополняющую ряды «пролетариев умственного труда», которых новой эпохе нужно было всё больше. Подчеркну, нужны были именно «пролетали», «рядовые», а вовсе не генералы (за давностью лет справедливость такого подхода обсуждать не будем). И мальчик, который в 17 идёт в университет с фантазией стать новым Ломоносовым, к сорока (когда ему только-только позволят выйти из «молодых специалистов»), в девяти случаев из десяти, скорее всего, превратится в брюзжащего, склонного к употреблению спиртных напитков, «кухонного диссидента». В общем, лозунгом эпохи становилось «скромнее надо быть». Из такого положения вещей вытекало три следствия: Первое. Пресловутое «обмещанивание», уход в частную жизнь, самореализация через причастность к «модному», «престижному» и т. д.… Второе. Если уж молва считала достойным какого-нибудь персонажа занять вакансию того или иного архетипического героя, то «спасения не было». Мне один человек из Челябинска рассказывал: в городе никто особенно не знал собственное начальство, зато все слышали, что в Свердловске есть такой Ельцин, который «ух какой». Всё больший вес приобретали «подпольные» художники и музыканты. Иногда, «на безрыбье» вырастали до гигантских размеров и вовсе инфернальные персонажи вроде Джуны Давиташвили. Третье, посерьезней. На подчёркнуто блёклом фоне резко выигрывали те, для кого публичность была сутью профессии. Актёры, певцы, в меньшей степени – авторы (писатели, поэты, режиссёры). Во всю расцветал жанр устной «светской хроники»: «у Пугачихи белый «мерседес» с нарисованным на крыше красным сердцем!», «Клавка обещала рассказать, кто там Лещенко с Толкуновой, брат с сестрой или ещё хуже!». Ей-богу, наше время с его «фабриками звёзд» и «примадоннами» как-то поздоровее относится к комедиантам. Никакой раскрученный «звездун» не станет тем, чем были в году, скажем, 1978-м Андрей Миронов, Муслим Магомаев или, страшно сказать, Владимир Высоцкий. Ибо каждый из заметных персонажей той поры занимал кроме своей «экологической ниши» в массовом сознании ещё и несколько чужих. Это обстоятельство здорово повлияет на дальнейшие события. Впрочем, надо учитывать что Госкино, Госконцерт, Гостелерадио это вам не «продюсер Дробыш», а гораздо круче. Империя под грифом «Секретно»
Одна из загадок позднего СССР – почему его граждане (даже не склонные ко всяческому «низкопоклонству» и «диссиде») начали всё больше ощущать себя на мировой обочине, оторванными от всего яркого, интересного, значимого, меняющего мир. У многих эти настроения были временными, вроде пыльного налёта, у некоторых это выросло в комплекс жителя глобального захолустья, огромной «деревни Гадюкино». Как могло это случиться с подданными одной из величайших держав, когда-либо существовавших на этой планете? Попробую дать один, довольно спорный, вариант ответа (подчёркиваю, не претендующий на полноту): державу-то от них спрятали. Именно так, а не потому, что «кругом была нищета и жрать было нечего» (чего пожрать и даже поесть всегда хватало, не всегда было чего кушать). Спрятали не по злому умыслу, а повинуясь определённой логике и весьма существенным факторам, но что это меняет? Мне возразят: «О чём ты говоришь, какая “спрятанная держава”?! Да от пафоса и хвастливости пропаганды просто тошнило!» А я отвечу вот что: пафос и фанфаронство, с которым подавалась информация не отменяет её «бескрылого» содержания. «Я проснулся, умылся и покушал», произнесённое торжественно не становиться победной реляцией и не перестаёт быть банальностью. То, чем предлагали гордиться, не слишком впечатляло, а часто и вовсе было скучно до зевоты. Очередной космонавт пробыл на орбите на неделю больше предыдущего. Никакой интриги, никаких прорывов. Советская пропаганда способна была превратить 70% плана в 170%, но и только. Всё яснее было (и даже СМИ говорили об этом почти без обиняков), что не проштампованные грифом «секретно» достижения того времени довольно посредственны. Даже плотины строились уже не самые высокие и прокатные станы не самые большие. Не говоря о надоях и умолотах. Добавьте к этому дефицит и падение качества продуктов и товаров (впрочем, об этом позже). Между тем, стране было чем гордиться. Особенно, если посмотреть на дело отстранённо, как смотрим мы, например, на историю Ассирийского царства, без пристрастности бывшего советского гражданина, у которого, возможно, свои счёты к тогдашнему руководству или, например, к «интеллигенции». Огромные вложения в науку и технологии, прежде всего, в оборонные отрасли, принесли свои плоды: к концу 70-х-началу восьмидесятых достигнут паритет с США и НАТО в военной сфере (оставим в стороне вопрос о цене и необходимости этого шага). По некоторым позициям вышли вперёд, созданное в те годы используется по сию пору, это пресловутый «научно-технический задел», позволяющий оставаться на плаву нашему ВПК. Обширные зоны влияния по всему Земному шару. Государство — признанный лидер огромного Второго мира. Солдаты и корабли в самых дальних уголках обитаемой вселенной. Да мало ли ещё что… Но страна жила, часто не зная своих героев и своих побед и общие слова о том, что «под руководством Партии и Правительства делается всё для того, что бы больше никогда» это положение не меняли. Такая вот странная на первый взгляд манера была у власти в тёмную использовать свой народ, скрывая от него плоды его же усилий. Герой одного вполне ещё советского раннеперестроечного романа говорил: «Чрезмерная секретность – это вредительство». Собственно, некоторой точки зрения, вредительство и есть. Секретом и полусекретом стало почти всё, что могло составить гордость и славу той эпохи. Тайной были имена и открытия всевозможных «секретных физиков», будто в 40-50-х не было повода так же спрятать Туполева или Яковлева, (впрочем, это положение вещей ещё можно понять). Даже доступные каждому западному школьнику фотографии наших ракет и истребителей, из числа хоть отчасти современных, почему-то не публиковались. Я в то время вполне патриотично увлекался авиацией, так вот: по большинству изданий выходило, что последним достижением нашего авиапрома был истребитель МиГ-21, и только моя непоколебимая вера в национальный гений и невнятные слухи спасли меня от малодушных сомнений в нашей обороноспособности. Внешняя политика презентовалась населению как нечто интеллектуально ничтожное: сплошное и даже унизительное уговаривание Америки не «развязывать войну», перемежающееся раздачей братской помощи голодающему человечеству. Видимо пропагандисты были озабочены тем, что бы представить нашу дипломатическую практику нравственно безупречной. А нравственность они представляли себе так: коктейль из глупости и простоватости в купе с миролюбием и щедростью. Герои далёких войн возвращались домой с нелепыми «легендами» для посторонних, с подписками о не разглашении и спрятанными ото всех орденами. Даже «Афган» долгое время пытались скрыть, «строю дом афганцам», помните? Да, что там, говорить о солдатах. Я был совсем мальчишкой, когда в наш город начали возвращаться со своими семьями инженеры-гидроэнергетики, работавшие в Ираке. Их вывезли оттуда с началом ирано-иракской войны. Повторюсь, я был мальчишкой, а там была война, нечто страшное (это мне уже бабушка объяснила), но и страшно интересное (это во мне природа бузила:)). Я всё хотел узнать, может быть, они видели войска в незнакомых мундирах, может их увозили из Багдада под обстрелом, может, ещё что-то было этакое? Но не только взрослые, но и дети отводили глаза и отвечали невнятно. Вполне возможно, что ничего занятного и правда не было, но как же иногда в этом сонном царстве не хватало хоть какого-нибудь «экшена», что бы было «весело и страшно». Ещё раз вспомнишь лейтенанта Ильина, который хотел убить Брежнева, в сущности, только для того, что бы в стране началась хоть какая-нибудь «движуха». Не было бы вопросов, если это всё имело смысл с точки зрения сохранения государственной тайны. Но даже давно раскрытые и растиражированные в тамошней прессе свидетельства могущества страны, успехов её политики внутри оставались секретом для своего народа. Спрятанная империя. Собственно, именно описание секретных и полусекретных достижений и раскрывает причину, по которой они были сокрыты от глаз собственных граждан в большей степени, чем от внимания иностранцев. «Хотят ли русские войны?» Нет, не хотят и вся идеология, атмосфера, темпоритмика жизни страны в те годы, всё было довольно «демобилизованным», после-военным. Раскрыть масштабы и цену, значило разрушить эту атмосферу тревожными пред-военными настроениями. Не настаиваю на этом выводе, но полагаю, что такая версия имеет право на жизнь. Со всеми этими обстоятельствами надо было что-то делать. В условиях, когда всё труднее стало одновременно поддерживать оборонный паритет со всем Золотым миллиардом и относительно высокий уровень жизни, теоретически было три выхода: 1) Капитуляция, реализованная Горбачёвым. 2) Мобилизация. Переход от экономики «тайно обременённой» ВПК к экономке, открыто и честно существующей единственно ради обеспечения обороноспособности страны, с соответствующей пропагандисткой «накачкой». Долгий разговор, почему это не могло быть реализовано, но главное, что страна и политическая верхушка были, в сущности, психологически совершенно не готовы к переходу из послевоенного в предвоенный модус. Но логика была на стороне этого варианта. Впрочем, есть свидетельства о том, что подготовка к переходу на мобилизационную модель всё же велась. 3) Переход на «самобытнические» позиции, благо был создан (преимущественно деревенщиками и, возможно, частью умеренных «сталинистов-государственников») небольшой идеологический задел для такой трансформации. Что-то вроде «никому не завидуем, ни с кем ни чем не меряемся, являемся монопольными хранителями исключительных ценностей, порох держим сухим». (Очень кстати здесь пришлась бы и «русская» мода начала 80-х на резьбу, платки, самовары и прочий декор.) Но с «марксистским» ядром на ноге такие пируэты совершать затруднительно. Можно поломать кучу копий, утверждая, что советская идеология к «настоящему марксизму» отношение имеет мало, но прогрессистская и просвещенческая начинка присутствовала в ней в изрядном количестве. На пути любых поползновений к таким переменам вставал, во-первых, единый фронт из коммунистических ортодоксов и прозападных прогрессистов, которые с радостью обнаруживали, что, по крайней мере, в вопросах отношения к «великодержавному шовинизму» и «мракобесию» они совершенно едины («Против антиисторизма» и т. д.). Да и «простые советские люди» в значительной части своей не готовы были принять такую метаморфозу. Идеи социального прогресса, благотворности постоянной динамики пустили довольно прочные корни в массовом сознании и извергнуть их в одночасье было невозможно. К тому же, уйти в само-изоляцию для нации, имеющей столь выраженный вкус к значимости на «международной арене», оказывалось бы в чём-то очень существенном как раз самой себе-то и изменить. Да и развиться в полноценную социальную, политическую и экономическую теорию советское «самобытничество» не могло. Что не удивительно: сколько-либо целостной, логичной системы, кроме, возможно «неправильного», «искажённого» т.д., но «марксизма» – в «свободном доступе» не было. Марксистами этого рода («от безрыбья») были даже ярые диссиденты. Изучение альтернативных идеологических концепций требовало образования, профессиональной подготовки, доступа к информации и времени. Учебники по истории политических и философских учений часто описывали мировоззренческие альтернативы «коммунизму» в таком окарикатуренном и «кастрированном» виде, что по прочтении оставалось одно только недоумение, как кто-либо мог верить в эту чушь и следовать ей. Деревенщики были, безусловно, достойными людьми, но интеллектуалами, преимущественно, в первом поколении, часто с очень трудным путём к образованию (и пробелами в нём), с не достаточной подготовкой и попадали в «марксистские» логические и ценностные ловушки на каждом шагу (исключение составляли лишь совсем подпольные русские почвенники). Потому и не вышло из «деревенщиков» и близких к ним публицистов и литераторов создателей новой государственной и национальной идеологии. Несоветский, нелевый, не расшаркивающийся перед интернационализмом и ленинизмом патриотизм не смог сложиться в то время. Сложно сказать, куда мог бы повернуть в своём развитии СССР «если бы да кабы». Во всяком случае, несмотря на некоторые «реверансы» в сторону «исконного», так травмировавшие наших «западников» и не только их («народные» сериалы и книжные «эпопеи», высокий статус академического и эстрадного псевдо-фольклора, Зыкина, матрёшечный «русский стиль» и т. д.), «почвеннический» поворот не состоялся. Более того, «прогрессистская» инерция, заставлявшая всякий день демонстрировать какие-нибудь «успехи» и «превышения над прежним уровнем», привела к тому, что в позднем СССР усилилась пропаганда негативного отношения к царской России. Не можем похвастаться чем-то перед соседями – будем гордо возвышаться над «1913-м годом», «Ленин крестьян из помещичьего рабства освободил» и всё такое прочее. И идеечка, о том, что большевики взяли тёмную, отсталую, варварскую страну и вытащили её из вековечного дерьма, потихонечку, подспудно обретала новое дыхание. А то, что получилось «вытащить» не «на уровень лучших образцов», так «вы попробуйте поработать с таким материалом»: генетика, тысячелетнее рабство и т. д. Не удивительно, что и доныне есть масса вполне себе (советско-) патриотически настроенных людей, которые любое упоминание о том, что существование России и русских может иметь всемирно-исторический (точнее надмирно-вневременной) смысл, превосходящий по значению прометеевскую драму Левой идеи, есть невыносимый, неприемлемый, опасный и с порога отвергаемый «обскурантизм». Существуют ещё и такие, кого начинает трясти от одного доброго слова в адрес «лапотной» старой России, это опять же к слову пришлось. Не хочется походя касаться сложных внешнеполитических аспектов, но совершенно очевидно, что «почвенническая революция» требовала бы частичного сворачивания «социалистического лагеря», превращение его в компактную группу проверенных сателлитов России. Естественно такое организованное (в отличие от горбачёвского бегства) и выверенное локальное отступление требовало гарантий со стороны Запада, а тот в свою очередь демонстрировал крепковыйность и не желание раз и навсегда смириться с разделением мира между двумя альтернативными системами, навязывая СССР всё новые раунды соревнований. Но внешняя политика – тема выходящая за рамки данной заметки, я же позволю себе подвести что-то вроде промежуточного итога. Мы никогда не поймём уроки «Застоя» если будем по-прежнему браниться в адрес всякого рода «обмещанивания» и скорбеть о том, что обывателя выпустили из казармы. Один из уроков, думается мне, такой: не давать пищу русской гордости, так же рискованно, как не давать пищу русскому желудку или даже более того. Кривое зеркало витринЯ много раз слышал суждения, что сам разговор о качестве или доступности продуктов и товаров в СССР, есть нечто совершенно омерзительное. В этот мир мы приходим не только жрать, существуют вещи поважнее: гуманная социальная система, работники, не зависящие от произвола собственника-работодателя, великая страна. Я не стану с этим спорить, более того, я даже с этим соглашусь, мне не жалко, но я предлагаю посмотреть на вопрос с несколько другой стороны. Качество товаров, оно ведь не только вопрос гадкой «потребительской привередливости». По моему скромнейшему мнению, мастерски выполненная вещь, это и своего рода важный нравственный феномен. В стране, в которой товары в основном были «сделано в СССР», витрина магазина становилась зеркалом, в котором нация видела себя. Мастеровиты ли мы, изобретательны, трудолюбивы, умны, наконец? И что же она там видела? Да в общем, немного хорошего. Без учёта этого обстоятельства не объяснить, почему вполне вменяемые русские люди заражались презрительно-небрежным отношением к собственной стране и, в конце концов, к самим себе. Конечно, ещё «мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, а также в области балета мы впереди планеты всей», но этого мало для самоуважения. Всё материальное, предметное, из чего складывалась мозаика обыденной жизни, проигрывало не только условным «западным аналогам», но и производимому в прошлом. Правда, рост зарплат делал товары доступнее по цене, но велика ли в том радость, если менее доступная табуретка, произведенная в 50-х служила до сих пор, а более доступная современная приходила в негодность через пару лет, и приходилось идти за новой. И это я ещё намеренно обхожу стороной тему Его Величества Дефицита. Кстати, на примере этой табуретки мне впервые объяснили (до всяких рыночных реформ), что такое «прибыль с оборота», но это так, к слову. Тогда же возник культ дореволюционной вещи как эталона качества, но главным соблазном, конечно, было Западное (хоть в виде импорта, хоть виде рассказа о тамошнем сервисе и прочей благодати). Это относительно тонкий момент и я хочу, что бы на него обратили внимание: жизнь «застойного» СССР в целом, «на круг», действительно, была спокойнее и благополучнее, чем когда-либо в ХХ веке, но каждый вырванный из контекста «фрагмент» проигрывал чему-либо в отечественном прошлом или зарубежном настоящем. 
Опять же, не касаюсь сейчас вопроса о том, было ли это невысокое качество и ограниченное количество чем-то вынужденным, например, следствием непростой внешнеполитической обстановки, заставляющей перенаправлять средства на оборонные проекты и на поддержку «союзников», или результатом объективных экономических факторов, говорю лишь о массовом восприятии. Картинка с ракетами-балетами показывала, что за исключением небольшого меньшинства, страну населяют «безрукие» тунеядцы и это было опасно, если помнить о том, что высокую лояльность населения получает только та власть, что приводит к победам, за которые стоит себя уважать. Отчасти этим невесёлым зрелищем, увиденным в «кривом зеркале витрин», можно объяснить и падение престижа рабочих специальностей в позднем СССР. Власти бывшей «первой страны победившего пролетариата» делали многое, что бы этот престиж поддержать, в частности, остановить отток мало-мальски способной молодёжи в «интеллигентные профессии». Довели дело до абсурдного положения вещей, при котором инженер получал в два раза меньше рабочего. Статус технической и прочей интеллигенции уронили, а рабочий класс так и не подняли. КОЛБАСА«Послушайте, я скажу вам, и пусть вы не поверите, но знайте – это правда»: в СССР колбаса была. Можно похихикать про спецраспределители или возразить, что это утверждение основано всего лишь на моём личном опыте, но разве на другой основе строятся противоположные суждения? Так вот: в городке, в котором я жил, колбаса была в продаже каждый день. Два раза в неделю был завоз качественной и вкусной варёной колбасы Клинского мясокомбината, 3–5 сортов. Стоила она, правда, не 2 рубля 20 копеек (в мечтах о которой принято уличать «быдло»), а 2,60 – 3,70 (последнее уже ветчина). Она, повторюсь, была вкусная и, увы, к вечеру следующего дня в магазине её уже не было. В остальное время в продаже была колбаса Волоколамского завода (обычно 2–4 сорта), в том числе за 2,20, да. Она была, откровенно говоря, невкусной, некоторые употребляют для её описания всякие грубые сравнения, оставим это на их совести, «везде-то они были, всё-то они пробовали». Скажем так: день её поешь, два поешь, на третий не захочется. Приходилось жарить. Первый самостоятельный кулинарный опыт моего детства – толстые ломти варёной колбасы, поджаренные на подсолнечном масле с золотистым луком, хорошо. Могу рассказать примерно тоже самое о молоке, кондитерских изделиях, фруктах. Опять же хлеб, крупы, макароны, картофель, овощи в продаже были всегда. В общем, когда я слышу по «ящику» типа мемуары какого-то телезвездуна «в советских магазинах еда была редко, а мясо отсутствовало совсем», то иногда (нечасто, но бывает) мне хочется, что бы кто-то из тех, кому подвезло быть рядом с этими «небожителями», ну, не знаю, по лицу, что ли его ударил. В целом, никаких ужасов, жить было вполне себе можно, а могло быть и совсем хорошо, если бы кто-то уважительно и неглупо объяснил «зачем?», ну, или хотя бы «когда станет лучше». Но лучше всё же было объяснить «зачем?» 
Вместо этого, вплоть до появления «национального проекта» под названием «Продовольственная программа», власть уверяла, что всё уже и так в полном порядке (имеются отдельные недостатки), что в переводе на русский означало «нам всё нравится, изменений не ждите». Не хочу сейчас вдаваться в тему экономики, в вопрос об адекватности цен, о соответствии роста зарплат росту производительности труда и т. д. Лучше вспомнить о тех дискуссиях, которые время от времени вспыхивают в Сети: кто-то выкладывает фото очереди (или бесформенной толпы) в остервенелом порыве штурмующей полупустой прилавок. Фото явно датируется каким-нибудь 1987 годом и тут начинается перебранка: «вот к чему привёл развал советской системы, свобода для спекулянтов и воров и демократия с кооперативами!», а им в ответ «рабы, «совки», так было все годы это проклятой власти, ничего не было и мне в очереди за этим ничего ногу отдавили, и больше 2 кг в одни руки не дали!» Выскажу своё сугубое «имхо» на эту тему. Представьте себе, что у Вас есть телевизор. То есть Вы-то, конечно, приличный человек и мыслящая личность и у Вас «зомбоящика» нету, но представим, для примера. Телевизор этот, в принципе, работает, но каждые полчаса по экрану бежит рябь, и нужно подойти и ударить по этому ящику из лакированной фанеры. Сбои годами происходят не чаще и не реже обычного, удар кулаком всегда эффективен, стабильность, «застой». Кто-то, имеющий в голове жёсткий концепт, каким должен быть «настоящий телевизор, достойный такого человека как я», от этой техники озвереет. А кто-то (автор этих строк, например) так всю жизнь проживет, и только посмеиваться будет, да каналы переключать пассатижами. Советская торговля периода «Застоя» – это такой стабильно нестабильно функционирующий аппарат. К закрытию магазина в продаже может не оказаться молока, вещи лучше покупать в конце квартала, когда универмагам нужно выполнять план и появляется дефицит, некоторые продукты скорее можно получить, работая на «стратегическом» предприятии, нежели просто зайдя с улицы в продмаг (в таком порядке вещей был кое-какой смысл в рамках советской парадигмы) и т. д. Но если знать и учитывать эти особенности, то питаться и одеваться можно было вполне. Теперь «Перестройка»: «телевизор» сбоит чаще, удар кулаком не лечит, то звук, то «картинка» пропадает и т. д. Ясно, что машинка на днях сдохнет и мы останемся без программы «Время» и вечерней фильмы про знатоков в 21:40. При этом денег на новый «Горизонт» нет. Для тех, для кого «ящик» и так числился в «не телевизорах, а тумбочках с железками» разница, может, и не велика. Для остальных отличия серьёзны: только что «картинка» была, а теперь чёрный экран. 
Вот почему у нас всегда есть две полярные точки зрения на проблему снабжения в СССР и масштаб изменений, привнесённых в эту сферу Перестройкой. Одна позиция (условно говоря, «либеральная»), строится на рассказах о перманентном голоде в СССР, убеждённости в том, что советскую систему никто не разрушал, она исчерпала себя сама, и власть до последнего боролась за её существование, не проводя прогрессивных реформ, а Ельцин и Гайдар спасли в 1992 году ленивых и агрессивно-послушных «совков» от смерти, а страну от коллапса. Ну, ещё некоторые упрекают стариков в иждивенчестве («надо было зарабатывать лучше»), а их сгоревшие в Сберкассах вклады называют «штрафом за сотрудничество с преступным режимом» и т. д. Иная точка зрения (и её исповедует очень много людей, но в Сети и СМИ они почти не представлены), гласит, что система «развитого социализма» де-факто исчезла (под руководством КПСС, что важно) в году так 1988-1990-м окончательно, с появлением кооперативов, легальных миллионеров, бандитских иномарок, оппозиционных партий, порно-видеосалонов и статей про «Россию – вечную рабу». Для этих людей страной 15 лет правил Горбоельцин, а текущая эпоха только недавно перестала называться «Перестройкой», которая «Господи, когда ж это кончится, когда ж жизнь нормальная начнётся». И во всём этом есть своя, хоть и кургузая, правда: и очереди в 1985-м были не те, что в 1989-м и вообще «всё другое». Кстати, именно поэтому, даже если представить, что в ГКЧП сидели бы не аппаратчики, незнакомые с уличной стихией, а люди способные работать с толпой, вряд ли у них что-либо получилось. Идея законсервировать СССР образца 1990-го года («Развивая многоукладный характер народного хозяйства мы будем поддерживать и частное предпринимательство…») мало кого привлекала, машину времени, способную отвести всю страну в 1975 год никто не придумал, а жить при диктатуре а-ля Сталин желающих тоже было не много (влияние «освободительной» пропаганды, или «не те времена», как кому нравится), ну, а больше и вариантов-то особо не просматривалось. Системе, которая и раньше-то работала на снабжение населения через пень-колоду, «простые люди» со своими жалкими копейками перестали быть нужны вообще, «телевизор» сломался. Параллельно вырос частный сектор и в дело вступили законы рынка с его нелинейной логикой, в которой вполне могли существовать и пресловутые грузовики с колбасой и сигаретами на свалке. Вот и представьте себе: 1990 год, Вы, как все советские люди, трудитесь на заводе, фабрике, в институте, у Вас заплата, допустим 300–400 рублей (с ростом инфляции начало расти и жалованье, к тому же предприятия получили право переводить часть безналичных средств в наличные «фонды материального поощрения»). В государственном магазине брюки стоят 50 рублей, но их там нет, там уже вообще ничего нет, зато в кооперативном ларьке есть джинсы «пирамида», фирмА, но стоят 700 рублей, 2 месяца не пей, не ешь – накопишь. И вот в госунивермаге «выбросили» штаны по 50 рублей (в 1990-м появлялись в продаже такие светло-голубые брюки, встречал в них людей вплоть до начала XXI века). Конечно, за ними давились как голодные беженцы за хлебом, по 5 пар брали. Тоже и с другими товарами, потому такой жутковатой энергетикой веет от фотосвидетельств той поры (и не только от них). Поэтому и запомнился конец 80-х неистовым накопительством, многие квартиры превращались маленькие склады соли, спичек и консервов. И подстегнула этот процесс не только всё разрастающаяся нехватка, но и это появление альтернативного государственному кооперативного сектора с его порцией шашлыков в четверть зарплаты инженера и импортными «варёнками» по цене половины «запорожца». Всем стало понятно: это не «временные трудности со снабжением», старое закончилось, и на горизонте замаячил страшноватый чужой мир, по отношению к которому многие избрали тактику «пережить», набрать полную грудь воздуха и полную кладовую продуктов и пережить, без особой надежды на возврат каких бы то ни было «старых порядков», с мучительными попытками встроиться в «рынок». И ещё два штришка к «портрету эпохи»: Как-то сотрудница одна рассказывала, как выживала она в середине 90-х в Москве, с двумя детьми (муж резко осознал несходство характеров и свалил куда-то), как экономили на каждой мелочи, как неделями жили совсем без денег, питаясь самодельными булочками, благо кто-то из запасливых соседей подарил мешок муки, которая начала портиться и т. д. Так вот эта хлебнувшая лиха женщина, вспоминая свою молодость, проведенную где-то то ли в Перми, то ли в Самаре, говорила: «Жрать было нечего». Я усомнился, попросил припомнить детали и совместными усилиями мы насчитали десятка четыре постоянно присутствующих продуктов в «голодном» городе её юности (крупы, «завтрак туриста» и т. д.). Но всё равно она стаяла на своём: «нечего жрать». Спорить я не стал, в конце концов, это вопрос не фактов, а жизнеощущения, а человек, вынесший такое, имеет право на своё мнение. И ещё. Был год, кажется, 1999-й. Путин премьер, вроде уже начиналась вторая чеченская война, я вечерами подрабатывал в одном НПО (научно-производственное объединение, оборонное, естественно). НПО занималось кое-какими боеприпасами, которые неожиданно потребовались армии, за это даже начали платить, не много, но регулярно, что не случалось долгих, очень долгих девять лет (вы ещё удивляетесь, что с Путиным так многие связали свои надежды?). Кажется, это было самое хорошее дело, в котором мне пришлось участвовать. Так вот, сидим мы как-то нашей небольшой группой поздним вечером, перекусываем, и довольно юная коллега предалась воспоминаниям о том, как она ребёнком частенько стояла в очередях, и как это было не легко. А потом начала рассказывать о своём доме, как её мама следила за тем, что бы домашние разнообразно питались, что бы на столе всегда было 3–4 вида фруктов, несколько сортов чая и кофе, не переводились любимые фруктовые кефиры и копчености, а ужин не проходил без свежих пирожных и т. д. В ответ на это бородатый к.т. н., перекладывая в свою кружку мой беушный чайный пакетик (мы так чай пили: один пакетик на два-три человека), флегматично заметил: «И зачем было поддерживать столь сложную бытовую культуру, если это требовало такого труда?» Вполне логичный, между прочим, вопрос… Странный «милитаризм»Советская «милитаристская пропаганда», или, если угодно, развитое оборонное сознание – нечто мало подвергающееся сомнению. Кто-то говорит о этом с отвращением, кто-то с уважением отзывается о состоянии вооружённых сил и высоком уровне оборонного сознания, но сам факт вроде бы очевиден и бесспорен: столько оборонных заводов, столько солдат, столько «военно-патриотического воспитания» всех, от мала до велика. Я спорить не буду, я о странностях этого «милитаризма» поговорить хочу. Ну, тотальную, всепроникающую «борьбу за мир» помнят даже те, кто застал СССР младенцем. Тема заслуживает отдельного разговора; отмечу, что там было столько искреннего ужаса перед страданиями, которые несёт война, что мобилизационно-оборонный эффект такой агитации может быть поставлен под сомнение. Т.е. внести деньги в Фонд защиты мира от этих роликов и плакатов хотелось, а вот встать под ружьё – как-то не всегда, слишком выпукло были представлены «невозможность войны» и «бессмысленность любого насилия». В «пацифизм» доигрались до такой степени, что в обывательской среде стали обычными разговоры типа «запустят американцы в 2000-м году атомною бомбу и будет всем нам конец света». 
Второе, что сразу вспоминается: как показывали по ТВ Советскую армию и армии «вероятных противников». Все эти военные «вкусности», которые заставляют биться «мальчишеские сердца» мужчин любого возраста, всё это доставалось Америке (и немного прочему-то НАТО). В подчеркнуто документальных, часто черно-белых, «зашумлённых», словно добытых разведчиками, кадрах международно-политических программ внушительно сдвигались люки ракетных шахт, с рёвом взлетали истребители с палуб авианосцев, выныривали из морских глубин субмарины, лихо разворачивались танки, обвешенные разными прибамбасами. «Поджигатели войны», «культ силы», зловеще и притягательно. А у нас всё иначе. Передача «Служу Советскому Союзу»: камера бегло скользит по бронетранспортеру (БРТ это же такая тайна), самолеты только издали, зато крупно – опрятные койки в казарме, улыбающийся кашевар, свежевымытый плац. Новобранцы бегут кросс, короткое интервью с солдатом: совсем мальчик, простое, отрытое лицо, русые кудри прилипли ко лбу. Алые погоны, алые петлицы, сверкающие золотом пуговицы, неплохая полевая форма для середины XIX века. 
Они бы хотя бы подумали, каким хочется выглядеть в глазах окружающих обычному подростку: «великим и ужасным» или «белым и пушистым». Почему всё обстояло таким образом? Ну, например, потому, что для поколения, «вынесшего на плечах все тяготы и лишения войны», настоящим адресатом любого послания внутри страны были, прежде всего, сверстники и сверстницы. А если вообразить себе наиболее типичного представителя этого поколения? Скорее всего, это женщина (мужчины погибли), как минимум сильно за пятьдесят (в семидесятых), знакомая с тяжелым трудом, родившаяся в деревне и, хотя и прожившая и проработавшая большую часть жизни в городе, на заводе, но город и «железки» эти так и не полюбившая и до конца не принявшая. Смотрит она на пиршество заморской брутальной стали, и никакого, понятно, интереса, только тревога и недоумение перед этой материализованной жестокостью. А покажут худенького паренька в кирзачах и пилотке – и сердце сожмётся – «Сынок!» (Иногда кажется, что именно такой вот работящей, простой и немолодой тёткой виделся властям весь народ. Во всяком случае, информационный ряд был во многом «заточен» именно под эту аудиторию, например, «молодёжная» передача, это почти всегда не передача для молодёжи, а программа «презентующая» молодых старшему поколению, показывающая, что «молодежь у нас хорошая», «заветам верна» и т. д.) 
Тут всё не случайно. Помните, как писали в те годы: «простые советские люди сломали хребет гитлеровской военной машине». Люди – машине, хребет. Читай: победа жизни над смертью. И неслучаен образ мальчика-солдата с простым и открытым лицом, чья чистота и неспособность к предательству, обладает магической силой того же рода, что была у легендарных девственниц, усмирявших буйных единорогов. Быть может, такой представляли свою молодость «властные старики», быть может, в этом они видели источник настоящей, неподдельной непобедимости. Только «мальчикам», надевавшим военную форму, примерять на себя ещё и этот тонкий и жертвенный образ хотелось не сильно. И страшно и «не круто». Куда веселее почувствовать себя бронебойным суперменом. Между тем, персонажей, на которые хотелось бы походить пацанам, было на удивление мало. Если посмотреть с этой точки зрения, на ещё один пункт, который считается подтверждением «агрессивной природы» позднего СССР – культ Великой Отечественной войны и вообще обилие военных в кино, то картина получается вовсе противоречивая. Настоящий милитаризм затушёвывает трагизм войны либо весёлой удалью Фанфана-Тюльпана либо варварской энергетикой Шварценеггера, подсовывая образы неуязвимых, непобедимых, удачливых, с которыми так легко и приятно себя идентифицировать. Советский кинематограф начинал «нащупывать» эту тему в 50-60-х, формируя довольно интересный тип героя – отважного, обаятельного и чуть лукавого простака, такого как Иван Бровкин или Максим Перепелица («Там, где пехота не пройдёт и бронепоезд не промчится, Максим на пузе проползёт и нечего с ним не случится»). Лыко в ту же строку – беззаботная военная комедия «Крепкий орешек» (с Соломиным, а не с Уиллисом) и даже вроде как «диссидентская», окуджавская «Женя, Женечка и «катюша»». Но постепенно (условная точка перелома – фильм «В бой идут одни старики») в образе солдата начинают преобладать черты не вояки, а страстотерпца, сама война оказывается страшной кровавой страдой, крёстной мукой. Акцент делался не на победном пафосе, а на цене, оправданной, безусловно оправданной, но неимоверно, чудовищно страшной. Воины Сергея Бондарчука или Ивана Лапина – это не те, кому хочется подражать, а те, перед кем нельзя не преклоняться. Это момент относительно тонкий: в своем предельном выражении готовность к подвигу и почитание героев оказывались противоположными вещами. Да и ещё один штрих: вспоминается, что после фильма «Случай в квадрате 36-80» какая-то западная газета напечатала статью, где главный герой назывался «элитным солдатом, чья униформа безупречна даже в гуще боя» и «русским ответом на Рэмбо». Знали бы вы, какой нервное опровержение на несколько полос вышло в советской прессе. Конечно, могут припомнить, в качестве аргумента в пользу утверждения о милитаризованности советского общества, особенности воспитания школьников: пионерская организация (классическая полувоенная структура на очень посторонний взгляд), «Зарница», смотры строя и песни. 
Но пионерия (говорю как бывалый член совета дружины и разных президиумов:))) занималась подготовкой не к армии, а к существованию в сложной иерархической системе, что-то вроде большого завода или, даже, главка или министерства:-). Из военно-спортивной игры «Зарница» драйв и агрессия мальчишеской «войнушки» были вычищены по максимуму. А ежегодный смотр строя и песни, так это же русский (прусский) аналог весенних карнавалов, без похабного задницеверчения. Оглядываясь назад я иногда думаю, что так, как советский, мог бы выглядеть ритуальный «милитаризм» в мире, где война невозможна, но есть мудрое понимание того, что многим для душевного здоровья воинская культура также почти необходима как для телесного – физическая. Но помимо всего вышеописанного, пересекаясь и распараллеливаясь с ним, существовало русское оборонное сознание, гордое, иногда чуть мрачноватое, иногда дерзко-весёлое, но всегда полное осознания собственной особенной силы. «Пусть только сунутся», или, если официальнее, «кто с мечом к нам придёт» и т. д. Тонкой, тоненькой ниточкой присутствовало в этом осознании уверенность народа в том, что война открывает, делает рельефной нашу исключительность. Ну и удаль, конечно, была в этом неофициальном самосознании и самоирония – «есть у русских ВДВ, там каждый стоит десяти наших рейнджеров, а есть ещё стройбат – это такие звери, что им даже в военное время автоматы не дают», «кранты вашей Америке, кто-то бросил валенок на пульт управления» Медленно ракеты улетают вдаль, Где-то мне встретилось рассуждение, о том, что этакий детский фольклор есть самое страшное свидетельство «промытости мозгов». Конечно, кому-то просто больно слышать такое про нежно любимую Америку, для кого-то любое проявление уважения к своей стране и настороженности к её конкурентам – свидетельство глубокого зомбирования, но мозги нам другим промывали, а за эти песни в школе и схлопотать можно было. Просто у некоторых всё было в порядке и с чувством юмора, и гордостью, и с амбициями, и с гормонами. Может, мы обидели кого-то зря Хрупкий мирЕщё одной странной особенностью позднего СССР была его гипертрофированная чувствительность к любой негативной информации. Этот очевидный недостаток системы был, тем не менее, результатом её собственной «информационной политики». Советская пропаганда всё более утрачивала навык интерпретировать негативные факты в свою пользу. На смену обычаю делать из любой проблемы (в том числе являющейся следствием провала политики властей) повод для создания очередной «героической эпопеи» в прессе, пришло тотальное сокрытие всего не только опасного, но даже просто тревожного. «Лакировалось» даже то, что «залакировать» было невозможно. Скрывалось даже то, что скрывать было глупо и опасно. 
Например, было довольно очевидно: если самолёты летают, значит, они падают, раз активность воздушных перевозок высока – тем более. Статистика авиапроисшествий в СССР была не плохой, и скрывать её особенной нужды не было, но скрывали тщательно. Редко когда хоть строчка попадала в печать о случаях аварий и катастроф. Тем более тягостное впечатление оставляли слухи о них, которые, как вы понимаете, неистребимы. Помню неприятный осадок после рассказа знакомой, которая стала свидетелем жесткой посадки самолёта в аэропорту. Точнее, рассказ не о самой посадке (которую она толком и не видела), а о том какую активность развили власти по оцеплению территории, задержанию для «воспитательной беседы» очевидцев происшествия и прочих мер обеспечения информационной безопасности, и всё это грубо, суетливо, «на нервах». Поневоле закрадывалась мысль: «А случись со мной что, чем в первую голову будут заниматься власти? Людей спасать или свою типа безупречную репутацию?» На население куда благотворнее влияет картинка, на которой суперпрофессиональные спасатели несут на руках счастливых детей, чем полное отсутствие официальной информации на фоне тревожного шороха слухов. Кстати, когда пришёл богатый на катастрофы 1986-й год, гласность в вопросах освещения событий в целом сыграла на руку верхушке, «такое и раньше случалось просто нам не рассказывали». Но это будет потом, а пока пропаганда транслировала всё более абсурдные представления о возможном и невозможном (должном и недолжном) в политике и экономике. Как следствие, с одной стороны, у каждого последующего поколения советских людей складывался всё более нежизнеспособный, хрупкий образ страны и мира, в котором мы живём, а с другой иммунитет к бытовому цинизму и к враждебной контрпропаганде падал всё ниже. Я говорю не о идеализированном (ибо он включал в себя представление о несколько фантасмагоризированных, но недостатках), а именно хрупком образе, способном разрушиться от любого хоть как-то аргументированного «негатива». Позволю себе такое, довольно корявое, сравнение: садовники из агитпропа высаживали в мозги хилые саженцы, которые пускали слабые корни. Не поняв этого, мы не ответим на вопрос, как за три коротких года с 1988 по 1991 в стране и со страной могли произойти такие перемены. Отсюда родом массовый истеричный «нравственный максимализм» времён Перестройки, когда люди полагали, что преступления полувековой давности достаточный аргумент для немедленного и чреватого новыми жертвами разрушения собственной государственности. В годы Застоя возникло не то что бы доверие к печатному и медийному слову (не было никакого особенного доверия), а уверенность в его суперзначимости. Некоторым, было, например, не совсем понятно как это: в Америке опубликовали книгу, в которой написано, что их президент – преступник, а там никакой революции и автор не сидит в тюрьме (за клевету – если он не прав или за правду – если прав) и вообще все живут как будто ничего не призошло, абсурд какой-то. Нормальное чувство недоумения для людей, у которых газетная заметка может вызвать революцию в мировоззрении (то, что через десяток лет любые «громкие сенсации» будут встречать с совершенным равнодушием, было сложно представить). Это-то восприятие любого громкого публичного высказывания, как чего-то, что непременно должно иметь последствия, и в отношении чего непременно надо занять ту или иную позицию, здорово «выстрелило» при Горбачёве. Помню, какое брожение умов вызывали раннеперестроечные статьи, например, о наркомании: «Надо же у нас и такое есть, ужас!» Воспринималось почти как «конец света», настолько не вязалось это с повседневной реальностью (прошу прощения у тех, у кого как раз вязалось, я рассказываю на опыте своём и своих близких). То, что проблема наркомании – это не когда об этом в газетах пишут, а когда в подъезде шприцы валяются, и сосед в ломке бьётся, понятно стало гораздо позднее. Впрочем, в скобках замечу, здесь сыграли роль не только вышеперечисленные обстоятельства, но и высокий статус, которым наделила власть журналистов крупных изданий, сделав их грозой мелких и средних чиновников. Без Бжезинских (беспомощность пропаганды)Один из промежуточных выводов из того, что я написал ранее: государство не просто проигрывало в области пропаганды или управления массовым сознанием, фактически оно даже утрачивало навык само-презентации себя перед своими же гражданами (простите за тавтологии). Это обстоятельство выглядит тем более странным, что все средства массовой информации находились в прямом и непосредственном подчинении органов государственной власти. Если принять во внимание то, что «массовидность» пропаганды была очень высока, приплюсовать значение, которое играют СМИ в формировании сознания современного человека, и прибавить к этому специфику общества, где все социальные и экономические институты были полностью государственными или подчинёнными ему (по крайней мере, для большинства дело обстояло именно так), то всё происходившее будет выглядеть именно как поражение, причём, очень тяжёлое. Как же это произошло? Оставив в стороне версию о сознательной капитуляции, как требующей слишком серьёзных доказательств, пробуем провести сравнение противоборствующих сторон. Первое о чём стоит сказать: методы и приёмы управления массовым сознанием, развитие теоретических основ этого дела. То, что происходило в этой области в Советском Союзе вряд ли можно охарактеризовать иначе, чем деградация. Сложно сказать (не будучи специалистом) сколь продвинутыми были в то время советские научные исследования в области психологии социальных групп и индивидуальной психологии, но представления, положенные в основу пропагандистских методик, оставались на уровне вульгарного марксизма-материализма середины XIX в изложении для фабрично-заводских рабочих. Возможно, они и были некогда действенны, при условии яростной убеждённости и изрядной смекалки агитаторов, но со временем исчезли и те агитаторы и те фабрично-заводских рабочие. 
При этом за эти представления держались не потому, что они работали и даже не потому, что ничего лучше на тот момент не было, просто они основывались на советском варианте марксизма и поставить их под сомнение, развернуть их пересмотр – значило сделать покушение на священную идеологическую корову государственной «религии». Идеократия, в известном смысле, самый уязвимый модус существования государства. Ценности, идеалы – всё это, безусловно, должно присутствовать в обществе и даже политике; более того, нет ничего столь же практичного, чем достойный и принимаемый обществом, хорошо «мотивирующий» людей идеал. Но «канонизировать» развёрнутую идеологию с вместе с сформулированными десятки лет назад представлениями и подходами – значит завязать себе глаза, а часто и сковывать руки. Не удивительно, что Советская эпоха не оставила по себе ни одного Большого Текста – эпохальной «нетленки» какого-либо крупного философа или политического мыслителя. Период Третьего Рейха оставил по себе с десяток книг-заноз, к которым волей-неволей будут обращаться ещё долгое время, поздняя Российская империя это Данилевский, Лев Тихомиров, несколько философов Серебряного века, СССР – это безмолвие, театр мимики и жеста, порой очень яркой мимики стилей и очень выразительных жестов-дел, но почти без слов. Первым и последним настоящим политическим мыслителем-создателем тестов Советской страны остался Ленин; даже Сталин, при всей занятности его книг и статей, это во многом «великий немой», чьи работы скорее заметки на полях властных решений, позволяющие видеть в авторе того, кого хотелось бы интерпретатору: евразийца, русофоба, капиталиста, националиста, византиста и т. д. Замечу, далеко не всегда советская пропаганда была чем-то смертельно натужным, фальшивым и т. п. Но даже самые сильные и искренние образцы информационного противодействия, например, культу западных товаров и «красивой жизни» (актуальная на тот момент проблемка) производили впечатление брюзжания кургузого, больного и слегка выжившего из ума старика, пытающегося отговорить свою пятнадцатилетнюю внучку от похода на танцы с плохой компанией. Та, будучи совершенно уверенной в том, что она всех круче, да еще и знающая несколько выражений типа «свободная личность» и «поведенческая раскрепощённость», конечно, его не послушает, и даже встретив прискорбные неприятности, не покается и не примет дедову правду. Ибо проблемы и даже несчастья это одно, но вернуться в скудный материально и бедный красками и страстями мир деда, признать его превосходство – выше сил. В этих условиях одной из немногих сколько-либо оформившихся альтернатив «марксисткой» «промывке мозгов» была публицистика изоляционистски-патриотического толка (в чём-то близкая линии таких «деревенщиков» как Василий Белов, но не идентичная ей). Мрачноватая, алармистская, конспиралогическая, она была подспудно наполнена странноватым государственническим мистицизмом, в котором Запад и вообще всё, противостоящее СССР (отчасти воспринимаемому как Россия), очень остро переживалось как нечто демоническое, призванное погубить душу, буквально «пахнущее серой» (подчеркну – искренне воспринималось). Своеобразную диалектику такого сознания неплохо показывает в своих книгах Сергей Юрьенен. Пара цитат из романа «Сделай мне больно»; говорит боец идеологического фронте с «говорящей» фамилией Комиссаров: - Я верующий. В дьявола. В Бога мне не положено. Но в купель я окунутый. Да! Бабкой из-под полы. Конспирологическое это бесоискательство-бесоборчество доходило до смешного, знаки нечистого-западного видели и в сочетании блюд, и в смене режима дня, и в покрое брюк, и в расположении цветов в триколоре; вообще Зло было вездесуще, в этой системе нельзя было шагу ступить, что бы словом, делом, прикосновением или помыслом не предать богоподобное Социалистическое Отечество и потрафить его врагам. Это важное обстоятельство: противостоящей сатане стороной был не Бог (для него в представлениях многих место вообще не находилось, более того, «поповщину» эти люди пинали часто с большим энтузиазмом), а Советское Государство. Этакий отголосок учения о Катехоне, про которое они, пожалуй, не могли слышать (возможно, проявление генетической памяти). Без оглядки на цензуру эти авторы смогли высказаться только в Перестройку на страницах «Молодой гвардии», «Советской России», отчасти «Нашего Современника», немногочисленных других изданий, например, образцов этого стиля немало было в газете «День»/«Завтра» (может, и сейчас ситуация похожая, мало знаю о нынешнем облике этого издания). С некоторым сожалением замечу, что с анализом и тактикой у «изоляционистов» было ещё хуже, чем у «марксистов». Это вообще была не пропаганда: движимые здоровым в своей основе, но всепоглощающим чувством, донести свои тезисы они были способны только тем, кто и так уже находились на одной с ними «волне». К «посторонним» их проповедь, насыщенная образами и сравнениями, а не доводами и аргументами, не была обращена вовсе, более того, она вызывала довольно закономерное отторжение. Даже человек, склонный к крайне критическому взгляду на тогдашнюю действительность и сходным образом оценивавший угрозы, едва сбившись с мрачного настроя, нередко начинал видеть в этих текстах не столько сгусток боли и тревоги, сколько смесь паранойи и жестокости. Чего стоили хотя бы призывы (всерьёз) к массовым публичным поркам (и чуть менее массовым расстрелам), или памфлеты, в которых интеллигенты каждый месяц отправлялись в специальную клинику для спила отрастающих рогов. Интеллектуальная беспомощность СССР в области технологии воздействия на массовое сознание выглядит особенно провальным на фоне взрывного развития этой сферы на Западе. Есть у «свободной экономики» довольно заметное преимущество перед плановой: многие значимые направления (если им повезло быть востребованными рынком) развиваются «сами собой», не требуя от государства ни инвестиций, ни управленческих усилий (правда, при таком раскладе, развитие может получить и нечто совершенно разрушительное, но это совсем другая тема). При «Плане» же требуется заранее каждую мелочь не упустить, внести в утверждённый и «осмеченный» список мероприятий, в который трудно вносить изменения, даже если конъюнктура того требует настоятельно (впрочем, этот недостаток огосударствлённой экономики тайной не был, и существовали механизмы его, в какой-то степени, исправляющие). Высокая коммерциализация, которая при рыночной экономике затрагивает в той или иной степени все области жизни – политику, культуру, религию, социальную сферу – является причиной того, что к совершенствованию способов и средств воздействия на массовое сознание привлекаются огромные интеллектуальные силы. «Ассортимент» этих средств огромный, достаточно вспомнить примерный перечень сфер, в которых они выковывались: реклама, маркетинг, брендирование, шоу-бизнес, «имиджмейкинг», «индустрия психоанализа», выборные технологии, PR, «актуальное искусство», создание субкультур, MLM, индустрия моды, «жёлтая» журналистика, стимулирование мотивации работников, коммерческий кинематограф, НЛП, корпоративное управление, да мало ли ещё разноуровневых и разноплановых явлений, успех которых зависит от мастерства в деле «промывки мозгов». Стоит помнить ещё и том, что люди, создававшие этот «арсенал», были мало связаны идеологическими или нравственными рамками: им редко приходилось отказываться от какой-нибудь эффективной методики только потому, что она не соответствует материализму, «попахивает мракобесием» или «эксплуатирует низменные чувства», является «недостойной высокого звания человека». При этом менее всего я хотел бы в этой заметке нагнетать ненужный пафос и кидаться словами типа «зомбирование», «стадо», «кукловоды» и т. д. Искусство воздействия на массовое сознание есть не только способ «оболванивания» масс, но и способ взаимодействия с массами, побуждения их к деятельности (в т. ч. сравнительно созидательной, в той или иной степени полезной всем). Способ нечистый, низкий, безблагодатный, но в определённых случаях очень продуктивный. Весь этот арсенал (это слово очень кстати, ведь речь идёт, в некотором смысле, об оружии), прекрасно опробованный и «пристрелянный», в условиях Холодной войны оказался востребован правительствами, спецслужбами, околовластными «мозговыми трестами», средствами массовой информации стран-противников СССР. Думаю, мне удалось отчасти показать одну из причин, по которой идеологические стычки, происходившие в брешах Железного занавеса, часто заканчивались не в пользу социализма. Дело, как видно, не только в «мещанстве», «животном обаянии» капитализма и прочих малосимпатичных вещах. Я вообще не приемлю аргументы по типу «люди были хуже, чем было нужно идеалистически настроенной власти». Советские бойцы идеологического фронта были хотя и многочисленны и относительно неплохо организованны, но неподготовлены, безобразно «вооружены», слабо мотивированны и вдохновлены и не имели толковых «офицеров» и заметных «полководцев». Вот об этих то последних и стоит сказать особо. В старом, ещё коротичевском «Огоньке» я прочёл неожиданную статью с лёгким полупатриотическим налётом, в которой была интересная фраза: «Среди сидевших в лагерях и психушках, было тысячи две, тех, кто мог бы выиграть Холодную войну». Ну, насчёт «лагерей и психушек», я бы поостерёгся там кадры искать, а вот то, что стране не хватало 2000, а лучше 20'000 интеллектуалов, способных и готовых на равных противоборствовать в области воздействия на массовое сознание лучшим головам золотого миллиарда, на мой взгляд, несомненно. Здесь нужно чуть-чуть коснуться темы взаимоотношений власти и порождённой ею интеллигенции (и сделать это придётся ещё не раз). Борьба за умы и сердца соотечественников и даже «идеологические диверсии» против конкурирующих обществ могли бы стать полем сотрудничества между властью и, по крайней мере, частью интеллигенции. Далеко не каждый творческий и образованный человек рождается с рефлексом слюноотделения при взгляде на Запад. Средний творец хочет трёх вещей (в числе прочего): 1) сделать нечто, что привлечёт к нему интерес (как правило, массовый), поможет запомниться, почему-то это стремление называется «самовыражение»; 2) непременно иметь возможность написать на этом «что-то» свои имя и фамилию максимально большими буквами и непременно так, что бы все-все их увидели; 3) вознаграждения, достаточного, что бы удовлетворить потребительское тщеславие и «забить» на быт: из маленькой и часто неприбранной квартиры перебраться в просторную и обихоженную проворной прислугой, пельмени на кухне заменить на ужин в ресторане и прочие «условия для нормального творчества». В общем-то, не так много, и то, что Запад представляется единственным местом, где всё это достижимо, никак не вина Запада или интеллигенции (при всём моём критичном к ней отношении). С первым пунктом было плоховато – необходимость хранить верность «советскому марксизму» в идеологии, «социалистическому реализму» в искусстве и прочим «основам» затрудняла заметные новации. Со вторым пунктом – совсем плохо, никогда не понимал, чем руководствовались люди, которые посылали, например, на международные кинофестивали не режиссёров и актёров, а чиновников от культуры. Отнять у художника (который часто на 2/3 состоит из честолюбия) минуту его триумфа, да ещё международного – это значит нажить не один десяток самых непримиримых (и при этом влиятельных) врагов на ровном месте. Главное, не понятно «зачем?», что бы не сбежал? Куда он сбежит со статуэткой? Ему же домой надо, друзьям похвастаться, оценить, как его рейтинг изменился в тусовке, понять, он уже альфа-особь или ещё нет. Тем более что через год всё равно выпустят на длинном поводке за шмотками, или другую подачку дадут, от которой он хуже освирепеет. С третьим пунктом, с вознаграждениями было в целом получше, но если кратко, можно сказать, что награждали не тех, не так, а, главное, не за то. Ответственность за то, что в СССР не было ни своего Бжезинского, ни своего Фукуямы лежит целиком на власти. Не интеллигенция отказалась заполнить эти вакансии – их просто не было, нужда в их создании не была осознана. Всё та же «поэма без героя». Это было не единственной, но одной из причин поражения СовСистемы. «Бжезинские» (как вы понимаете, это скорее символ) не могут просто так предать, они люди «большие», «с именем», им «уплачено». А в СССР не было «крупных экспертов», были референты-спичрайтеры, «международники», всевозможные «фёдор-бурлацкие», «маленькие», безымянные, которым «не додали», им предавать не зазорно. При этом, ощущение системного и уровневого превосходства западных методик «промывки мозгов», переживание их как чего-то неотразимо-соблазнительного, дьявольски-умного сквозило в советской пропаганде во всю, но выводов сделано не было, если не считать непоследовательных попыток законопатить некоторые щели в Железном занавесе. Упущено было сразу две возможности, точнее три. Хочу быть правильно понятым: я имею ввиду не только пропаганду как таковую, а широкий диапазон от актуального философского дискурса до социальной рекламы. Первая возможность – это, конечно, управление внутренними процессами. Вторая – получение мощного оружия во внешней политике. Мне приходилось читать, что в 60-70-х СССР стоял на пороге глобальной победы, тогдашняя капиталистическая система готова была рухнуть. Не представляю, как это могло случиться, Советский Союз мог покупать или очаровывать иностранных вождей или интеллектуалов, но проводить операции по формированию общественного мнения какой-либо страны поверх их голов был не способен. Ибо умел транслировать только образы и смыслы, которые могли привлечь разве что голодающих и страдающих от эпидемий, ну и немного мальчиков из хороших семей (совсем немного к тому времени). Третья возможность – это получение поля для сотрудничества с собственными интеллектуалами-гуманитариями. Мне могут возразить: быть может, где-то в глубинах спецслужб или идеологических отделов и разрабатывались блестящие тактики и стратегии идеологической войны. Во-первых, эти достижения не были продемонстрированы (впрочем, некоторые уверяют, что именно на них КГБ тестировал свои «облучалки мозга», но видимо дальше экспериментов дело не пошло:)). Во-вторых, если вы хотите иметь развитую химическую науку и передовой химпром вам понадобятся десятки факультетов, сотни лабораторий, тысячи предприятий, а не несколько взводов «секретных химиков». То же и с войной за массовое сознание. Наконец, можно сказать, а зачем это всё? Зачем прикармливать этих тщеславных умников, выращивать гуру пропаганды, придумывать изощрённые способы обмана народа? Не лучше ли было закрыть страну наглухо и просто и прямо сказать подраспустившемуся населению: будьте честными и прилежными, не заноситесь и не мечтайте о личной славе и личном богатстве, не врите, что «жрать нечего», когда на столе самого бедного из наших братьев есть хлеб, молоко, картофель и «завтрак туриста», любите свою страну и будьте благодарны власти, за то, что ваша страна существует и хватит с вас. Может (хотя, есть достойное суждение, что русским не следует кому-либо быть благодарным, кроме Господа Бога), и лучше, равно как и нашим далёким предкам лучше было не вкушать с одного из деревьев в одном Саду, да уж что теперь об этом горевать. Реальность на веки усложнилась и с этим глупо не считаться… Образование. Штрихи к портрету. Интеллигент и рабочий за одной партойКак же произошло, что массовая советская интеллигенция (а речь пойдёт именно о ней, а не о обитателях арбатских двориков), в сущности порождённая властью, оказалась к ней уж если не в оппозиции, то в некой зоне отчуждения, и, что гораздо серьёзнее, отчуждение это распространила на весь народ (с которым была связана узами самого что ни на есть кровного родства), на его историю и сформированную ею ментальность и культуру? Откуда взялся тип образованного русского, да ещё из «простых», который как огня боится всякого рода «великодержавного шовинизма», а в потомках инородчески-комиссарской элиты видит «аристократов», хранителей и даже создателей самой возможности интеллектуальной и творческой жизни в России. Без которых непременно настанут по всей Руси дикость, варварство, восторжествуют «Гулаг», «домострой» и «пугачёвщина» в одном флаконе. Наконец, как получилось, что для многих слово «интеллигент» стало синонимом понятия «слегка образованный трусоватый мелкий пакостник с самомнением»? Можно, конечно, с умным видом указать на то, что некоторое анти-государственничество было присуще значительной части интеллигенции ещё в XIX веке (и даже раньше), сослаться на Победоносцева, Бердяева или кого угодно, но что это доказывает? Генезис-то советского образованного класса имеет существенные отличия. Ссылка на прошлое приводит нас то ли к какой-то социальной мистике то ли к психологическому детерминизму, в соответствии с которыми сидение за партой более 14 лет с большой гарантией превращает русского в оппонента нации и государства. Биология, что ли, такая? С ходу не отвечу, для меня тема не прозрачна, но обращу внимание на некоторые штрихи. 
Начиналось всё, как водится, со «школьной скамьи». Сталинскую школу многие описывают как царство дисциплины, зубрёжки, невозможности манкирования требованиями учебной программы. Не справился – на второй год, с непременным разговором учителя с родителями, который воспринимался ими как представитель власти (это важно), и никого не волнует, что Тургенева ты в гробу видал, и тебе прямая дорога после школы в ФЗУ. Не получается – старайся, пыжься в меру собственной тупости, но игнорировать приказ-задание педагога не смей. Развивающей такая система не была (хотя преподавание логики дорогого стоит), ребёнка даровитого, но, например, слишком нервозного, что бы демонстрировать стабильные результаты, могла втоптать на уровень плинтуса (ибо индустриальное государство-фабрика нуждалось не просто в людях со способностями, а в работоспособных людях со способностями, простите за столь неловкий каламбур), но поощрять нужные таланты и прилежание умела. Примерно с шестидесятых годов положение начало меняться (здесь я «плаваю» и говорю довольно приблизительно), и, как часто бывает, либерализация порядков порождает повреждение нравов. Сложность школьной программы, возможно, и выросла, а вот требовательность потихоньку пошла в низ. Класса с 5-го (в лучшем случае) те, кому учиться было не интересно как с точки зрения удовлетворения любознательности так и с точки зрения социальных перспектив, которые открывает образование, обнаруживали, что «училки» совсем не страшные, сделать ничего не могут, статистику второгодниками портить не хотят, и если «забить» на учёбу не слишком вызывающим образом – то «тянуть» до окончания восьмилетки двоечника будут без его участия. «Серёже история не нужна, он пойдёт в ПТУ» – универсальная «отмазка». «Серёже» вообще ничего не нужно, ни математика, ни литература, ни в пионеры вступать, всё это сделают за него, презрительного глядящего на школьные порядки будущего пролетария: «нарисуют» «тройки» в четверти, повяжут галстук, переведут в следующий класс, вручат аттестат – лишь бы показатели были в норме, проблем меньше, нервы целее. 
Появился странный парадокс системы – неподчинение не наказывалось, подчинение не вознаграждалось. Как следствие, получить полноценное среднее и даже высшее образование стало легче, но на субъективном уровне казалось, что поощряется такое стремление всё меньше. Мне скажут, что это логично – желающих приобрести вузовский диплом и занять не пыльное место, было изрядно, работать, как всегда, некому, нужно было как-то поощрять выбор в сторону завода и фермы. Это действительно был выход, очень хорошо попадающий в стилистику эпохи, но вовсе не единственный. Возможной альтернативой было повышение планки образовательного уровня, дающего доступ к в/о, но снижать требования к дисциплине и исполнительности было ошибкой. Поясню почему. Обращаю ваше внимание: я рассматриваю, прежде всего, ситуацию с образованием детей из «трудового народа», массовая советская интеллигенции вышла именно оттуда. У нас есть два мальчика, допустим «Серёжа» и «Алёша». «Серёжа» сызмальства неприлежен к книжному знанию, целыми днями пропадает во дворе, все уверены, что ему прямая дорога на завод. «Алёша», напротив, на радость (как правило) близким, книгочей и хорошист. С родительских собраний мама и бабушка возвращаются румяные от удовольствия: «нашего-то как хвалят, прочим не чета!». Что у нас получается с «Серёжей». С третьего класса, если не раньше, он понял: если ты не собираешься «учиться дальше» можешь не учиться совсем. Можешь игнорировать требования, даже хамить педагогам, это преимущественно безопасно. Освободившееся от подготовки домашних заданий время легко заполняется разными предрассудительными развлечениями. Школа для него не становится местом социализации, точнее даёт искажённую социализацию. Первая встреча с представителем власти даёт модель поведения на всю жизнь. Он будет склонен так же «посылать» бригадира или начальника цеха как когда-то игнорировал задания учительницы. Осваивает новые технологии он трудно, восприятие простейших инструкций к оборудованию на грани функциональной безграмотности, память не тренированная (ему ведь «буря мглою небо кроет» предлагали выучить не для того, что бы из него пушкиноведа сделать). Квалификация хромает, какой из него, скажем, высококлассный электрик, если он физику за пятый класс не осилил (в ПТУ он тоже всех «послал»). Эта ре-люмпенизация могла зайти очень далеко, если бы труд сам по себе не обладал дисциплинирующим и «просветляющим» действием на людей, не лишённых нравственного чувства. Плюс смягчение нравов в обществе, где нет жёсткой конкуренции за кусок хлеба, плюс «мещанство», «потребительство» (будь прокляты они во всех случаях кроме этого), усложнение бытовой культуры, «зомбоящик» и всё такое прочее, заставляющее человека следовать сложным алгоритмам современного общества. Кстати, привычно предъявлять сов. власти претензии за то, что она избаловала «социально близких» «гегемонов», «шариковых» в этом случае не стоит. Здесь имеем следствие бездумного, ничем не скомпенсированного «ослабления гаек» (ослабления для всех, замечу во избежание кривых толкований), а не просчитанных мер. Во-первых, для той власти «близких» в низах, в общем-то, не было, она достаточно окуклилась. Во-вторых, это не выгодно было, прежде всего, самому режиму, государство-работодатель терпело убытки от плохих работников, государство-полицейский страдало от хулиганов и «спонтанных преступников». Де-факто такая «народная школа» провоцировала вторичную люмпенизацию. А люмпен всегда падок на пропаганду всяческих свобод и на определенных этапах является естественным союзником либерала, «а чё это нам нельзя журналы с голыми бабами и кино с мочиловом смотреть?!». Наши демократизаторы, кстати, этим охотно пользовались и пользуются, но признаваться в этом не любят. Теперь «Алёша»-умник. Его жизнь тоже не сахар. Ограниченный в дисциплинарных средствах и связанный необходимостью хоть как-то, но доучить всех, педагог не может уделять ему внимания больше чем отпетым двоечникам, ни настоящего тренажа ни настоящего испытания собственных дарований он не получает. Стимулирование через оценки тоже какое-то куцее: что ставить тому, кто готовился, но ошибся в ответе? «4»? Но тому, кто мычал вместо ответа ставят «3». «5»? Но это лишает стимула к росту. Фактически он получает сигнал от первого в его жизни властного института: «ты исполняешь наши требования, но это всё не всерьёз, твои успехи нужны только тебе одному, а для нас было бы гораздо лучше, если бы ты занял место среди тихих невежд и троечников». Так рождалось убеждение, что это государство основано на лжи и ненависти к интеллекту. Класса с седьмого половина уроков проходит в страшном гвалте, который создают те, кому «ничего не надо» и «сочувствующие» им. Плюс отношения с однокашниками складываются иногда довольно конфликтно. Опять же, за книжкой сидишь, готовишься, когда «все наши собрались», скажем, на брёвнах за гаражами, и какая-нибудь Танька или Светка уже там. В результате в голове «Алёши» поселяется горделивое осознание собственного превосходства над «стадом» и его жалкими «пастухами», тем паче, что книги, которые он читает, полны образами непонятых и гонимых одиночек («придворная чернь травила Пушкина»). И он, как ему кажется, лишенный поддержки на заведомо достойном пути, самоинициирует себя в «не такие как все», в «свободные мыслящие личности». А дальше – дело техники, стихи и песни, толстые журналы и самиздат расскажут ему о его малочисленных и таких нездешних по крови и духу, но дорогих братьях. Добавлю ещё несколько штрихов. Для «совсем простого», т. е. не совсем советского человека, т. н. «обывателя», на каком-то уровне сохранившего представления дореволюционной эпохи, получить образование – это значит «выйти в люди», что подразумевало не просто «чистую», «умственную» работу, но и богатое жалование, достаток, статус, «почтение». Сами понимаете, рядовой (да и не рядовой тоже) советский инженер ничего этого не имел. 
Ещё нюанс: Ребёнок из, условно говоря, «интеллигентной» среды идёт учиться часто вследствие традиции семьи, желания существовать в привычной социальной нише и т. д. То есть уровень карьерных амбиций может быть довольно низким. Выпускник школы из, например, рабочего посёлка (особенно во времена оны) часто ехал поступать в вуз уверенный в экстраординарности собственных способностей и вдохновлённый образом какого-нибудь первейшего гения (чувствуя себя его наследником). Нередко эти убеждения поддерживали в нём старшие. Те, кто уверены в том, что «работяги» мало отличаются от горилл, могут мне не поверить, но целеустремлённые парень или девушка «из народа» преимущественно сталкивались не сопротивлением среды («что корпишь над своими книжками, иди водки выпей!»), а с завышенными ожиданиями (пролетарская мама моего старшего друга, кандидата наук, до сих пор не понимает, почему её сын не стал «большим человеком» и его не показывают по ТВ). Специалист из самородка, получится скрое всего не плохой, но вот смириться со своим скромным местом во всемирной истории удаётся не всем. Проще обвинить в этом невежественную среду, которая «заедает» и режим, который «удушает». Можно обвинять таких людей в неблагодарности, напомнить, что режиму следует сказать «большое спасибо» за предоставленные возможности, но человек всегда склонен высоко оценивать значение своих трудов. Тем более, что никакая «забота государства» не делает ненужными собственные жертвы и усилия. Нужно совсем уж в скобках заметить, что на облик советской интеллигенции сильное влияние оказал характер нашего высшего образования, сохранившего в целом некоторые черты универсального, университетского, а не узко-специального. Безусловно, и это наложило свой отпечаток, вкупе с природной национальной склонностью к гуманитарности. Кстати вопрос, почему эти университетские рудименты дожили до позднего СССР, ведь для такого режима технарь, доведённый до стандарта биоробота, вроде бы функциональнее и безопаснее. Точно вряд ли кто ответит, я предложу для разнообразия три варианта: 1) Большевики просто унаследовали систему, не разобравшись в ней до конца и не имея возможности позволить себе роскошь полностью демонтировать и собрать её заново (как сделали это с армией и, во многом, со средней школой). Первое поколение советских вузовских преподавателей было почти целиком «старорежимным» и традиции старого Университета, в усечённом виде они передали дальше. 2) Необходимость считаться с национальным менталитетом. Условного западного человека можно (вроде бы) просто нанять, например, дёргать рубильник каждые пять минут и в течение рабочего дня он будет его дёргать строго по часам (говорят, что так). С русским сложнее, ему придётся объяснить, зачем рубильник дёргать, почему именно через пять минут, а ещё лучше познакомить с базовыми понятиями электротехники (условно говоря). Иначе есть риск, что он усомнится в нужности своего труда и попробует манкировать обязанностями. Зато, будучи подготовленным, он может спасти ситуацию в тех условиях, в которых «узкий» европеец окажется беспомощным. 3) Коммунисты строили государство, в котором «каждый, в ком “сидит” Рафаэль, получит возможность беспрепятственно развивать и раскрывать свои дарования», а это предполагает широкую образованность. КГБ: «Всемогущая политическая полиция»Оговорюсь сразу: я не являюсь специалистом по истории КГБ или диссидентского движения, и даже к «продвинутым любителям» этой темы не отношусь, всё написанное ниже плод моих скромнейших умозаключений и результат сопоставления известных мне фактов. В наше время репутация Пятого («политического») Управления КГБ ССР (а я говорю именно о нём, а не об «органах» «вообще»), похоже заиграла новыми красками: как-то прочёл в дневнике какого-то молодого то ли сталиниста, то ли левого имперца, что-то наподобие «когда за каждым следят неспящие глаза офицера органов», в общем, тогда-то и начинается энтузиазм и улучшаются нравы. 
Так вот в период застоя неспящих этих глаз было на удивление не много. Приходилось встречать оценки численности «Пятёрки» в 200 офицеров. Другой автор говорит, что «численность всего Пятого управления КГБ СССР с прапорщиками на воротах, охранниками и уборщицами несильно перевалила за полтысячи сотрудников». Как вы понимаете, при такой «массовости», охватить своим «вниманием» удавалось очень немногих. Например, 500 и более сотрудников милиции – примерно столько занимается охраной правопорядка в не самом крупном подмосковном райцентре. А тут страна огромная, 300 с лишнем миллионов жителей, тоталитаризм крепить нужно, мыслепреступления карать. Прочему так мало «жандармов»? В статьях, написанных с продиссидентских позиций, довольно часто приходилось читать, мол, это связано с тем, что всякий «советский человек» был, так сказать, по природе «добровольным помощником органов», гебистам оставалось только вязать тех, на кого указали бдительные граждане. Некоторых инакомыслящих, надо думать, «совки» просто загрызали. Оставим эти утверждения на совести авторов. На мой взгляд, в гораздо большей степени это цифра говорит о вероятности встречи «простого человека» с «сотрудником органов» (специальные отделы на предприятиях не в счёт, они несколько другим занимались) и уровне интереса со стороны «органов» к «обычным гражданам» (как вариант: уровне угрозы «режиму» со стороны «простых граждан»). В скобках можно выразить пессимизм по поводу перспектив «анти-гебешной» пропаганды. Зайдём с другой стороны. А широк ли был фронт действующих противников режима? Понятно, что всё же базовым оппонентом «секретной полиции» являются разного рода «подполья», «тайные общества» и т. д. Кстати, как правило, обе стороны этого противоборства в чём-то копируют друг друга, «Народная Воля» не зря в своё время ввела в своих рядах «звания» агентов 4-х классов, ЕМПНИ. Конечно, задача стоять на страже государственного строя, предполагает ещё и мониторинг настроений, анализ тенденций т.д. Но главное (имхо) всё же спарринг с организованными «силами», ибо пресекать «слухи», исправлять «настроения» и всяко «не давать рассказывать анекдоты» чисто гебисткими средствами весьма затруднительно, а, главное, не нужно. Слух о могущественности противника и недостаточности наших сил в осаждённом городе мощнейшее оружие, и паникёр, делящийся своей информацией, рискует головой, в мирное время же распространение каких-либо не желательных тенденций скорее повод для изменения политики в области СМИ, образования и «усиления воспитательной работы парткомами и комитетами комсомола на местах». Итак, какова же была численность деятельных и организованных противников режима, широко ли раскинуты их сети? Андрей Амальрик, известный диссидент, в своём знаменитом эссе «Просуществует ли СССР до 1984 года?» (1969 г.) оценивает численность «Демократического движения» (условный термин, используемый автором, реальную организационную структуру не обозначает) в «несколько десятков активных участников и несколько сот сочувствующих Движению и готовых поддержать его». Причём автор относит к Движению вообще все неформальные / подпольные политические организации, существовавшие в то время, в т. ч. не имеющие прямого отношения к идее демократии, т. е. в «ДД» он «принимает» и Марксистко-ленинский союз, и Всероссийский социально-христианский союз и группу журнала «Вече» и националистов разной этнической принадлежности и т. д. Логика в этом обобщении есть – раз люди затеяли создание политической группы, значит, по крайней мере, в многопартийности они заинтересованы. В скобках замечу, что работа эта интересна ещё с одной стороны, как своего рода манифест классической русофобии; автор проклинает «этот народ без религии и без морали» и возлагает надежды на грядущее поражение страны в неминуемой, по его мнению, войне с Китаем. Причины малочисленности «свободолюбцев» становятся чуть яснее… Итак, прямых и организованных в политические структуры противников СССР, как видим, было совсем не много. Даже если предположить, что за период 70-начала 80-х годов количество «активных участников и сочувствующих Движению» возросло на порядок (что ещё требует доказательств) всё равно оказывается, что на каждого офицера «политической полиции» приходится примерно по одному настоящему «революционеру». Полагаю, что логичнее было даже предположить, что численность находящихся на свободе «подпольщиков» в последние полтора-два доперестрочных десятилетия была более-менее стабильной, а в некоторые периоды и падала. Где-то мне встречались сведения о существовавшей в первой половине 80-х «группе МПВ» («Морально-политическое возрождение»), которая представала собой собрание оставшихся участников различных разгромленных организаций, и к тому же была готова пойти на компромисс с властями (могу ошибаться). Примечательно, что наиболее заметные по численности оппозиционные структуры вообще не носили характер политической партии или движения. Такова, например, была сеть распространения самиздатовского журнала «Хроника текущих событий», представлявшая собой несколько цепочек получения и распространения информационных материалов (цепочек, впрочем, весьма длинных, позволявших распространять журнал относительно широко). Добавим к этим структурам, которые преимущественно носили столично-интеллигентский характер, некоторое количество энтузиастов-одиночек, встречавшихся в различных социальных слоях. Примечательно, что многие из них, такие как младший лейтенант Ильин или капитан 3 ранга Саблин были вдохновлены примерами всячески воспеваемых властью заговорщиков разных времён, а в качестве идеологической основы своей деятельности видели самопальный «истинный ленинизм». Безусловно, в круг интересов «Пятёрки» входили не только подпольные организации и периодические издания. Тем паче, что сколько-либо заметного общественного интереса к ним не наблюдалось аж до второй половины 80-х (литературный самиздат другое дело). Много внимания уделялось одиночным диссидентам-элитариям, способным нанести чувствительный (по мнению властей) урон репутации страны в мире. Количество этих людей, от Светланы Аллилуевой и Есенина-Вольпина до Петра Григоренко и Андрея Сахарова, было так же очень не велико. Отслеживалась, скорее всего, ситуация в общественных и религиозных организациях. Ещё один объект интересов – гуманитарная интеллигенция – находилась под плотной опекой творческих союзов, а так же академического, книжно-журнального, филармонического и прочего «культурного начальства». По многим свидетельствам современников, грубо говоря, творцы были на самообслуживании по части «укрощения». Но ведь «все мы знаем», КГБ безжалостно преследовал под разными предлогами независимых творческих людей. В качестве примеров подобных репрессий приводят судьбу Алексея Романова (музыканта группы «Воскресение»), продюсера Юрия Айзеншписа, Александра Новикова и некоторых других. Но беглое изучение истории этих гонений приводит к выводу, что в СССР действительно была многочисленная и вездесущая «полиция» стоявшая на страже социально-экономического и политического режима СССР, но она мало интересовалась содержанием стихов и песен и у неё было другое название, не КГБ. На страже социализмаОбратимся к воспоминаниям современников: Цитата из книги Александра Житинского «Путешествие рок-дилетанта», интервью с Борисом Гребенщиковым. - Как складывались отношения «Аквариума» с идеологической системой, царившей в те годы? Лишь после фестиваля «Тбилиси-80», где классики русского рока надавали интервью западным корреспондентам и вообще «зазвёздили» изрядно ими заинтересовались серьёзные люди. БГ описывает эту встречу так: Последний абзац особенно хорош. 
Обратите внимание, что делает ОБХСС. Есть гражданин СССР Гребенщиков Б.Б., возглавляющий небольшой коллектив, оказывающий населению некоторые услуги. Предоставлять именно эти услуги населению государство не намерено или полагает, что уже предоставляет в достаточном объёме и лучшего качества, в общем, в услугах гр. «Аквариум» не нуждается. ОБХСС не пытается выяснить репертуарную политику, жанровую направленность, тяжесть «мыслепреступления» гражданина Гребенщикова, этим займётся (если займётся) какой-нибудь комитет комсомола. ОБХСС не пытается препятствовать игре БГ на гитаре, он препятствует деятельности по извлечению прибыли. Даже не наказать задача, а именно создать условия, при которых эта деятельность была бы крайне затруднена, а лучше вообще не возможна, и гражданин Гребенщиков пошёл бы «как все» на работу (не важно сторожем или научным сотрудником), работал бы там столько времени сколько нужно и жил на ту сумму, которую за это платят. Это суть вообще всего советского стоя. Гражданин СССР должен работать на государство, выбирая для себя род занятий из тех, в которых заинтересовано государство, и иметь столько денег, сколько платит ему государство. Это нужно учитывать всем: как запоздалым «друзьям СССР» (иногда действительно напоминающим европейских левых, глядящих на Союз откуда-то из Лондона-Парижа 1968 года) так и его не менее запоздалым врагам. Исключения в виде немногочисленных частных портных, доходов с огорода и от мелких «халтур» и т. п. картину не меняют. В недостижимом идеале, советское государство хотело стоять между любыми двумя людьми, вступающими в какие-либо экономические взаимоотношения, пытаясь даже «подхалтуривающего» «дядю Васю» потеснить своими «службами быта» и «бюро добрых услуг». Для справки: я не одобряю и не осуждаю такой порядок вещей, просто констатирую. Для такой системы вездесущая «полиция мысли» была просто не нужна. Представьте себе Ленина сотоварищи, которые каждый по 8–9 часов проводят на госслужбе, получая при этом эдак рублей 25 царских в месяц и существующих в системе, где деньги не суверенны и нельзя просто так пойти и купить, например, печатный станок или домик под явочную квартиру. Я не утверждаю, что они бы до сих пор бы «Коммунистический манифест» через копирку на ундервундах печатали (хотя …), но, во всяком случае, это сильно осложнило бы деятельность, не так ли? Теперь обратите внимание, что делает КГБ. «Комитетчики», привлечённые фактом роста интереса к БГ (я верю), начинают «крышевать» музыканта и затевают с ним невнятные «шпионские игры». Нашли себе применение. Вот почему можно назвать ОБХСС без особой натяжки куда более важным на «внутреннем фронте» элементом системы, чем даже пресловутое «Пятое Управление». «Борьба с хищениями социалистической собственности» обеспечивала 100% включенность гражданина в социальную матрицу и гарантировала ограниченность его возможностей по её разрушению лучше, чем любой «страх перед Лубянкой». Более того, можно отметить прямую зависимость между снижением экономической «суверенности» граждан (урезание крестьянских наделов «по калитку», падение числа мелких ремесленников, переселение из частных домов в городские квартиры) и уменьшением уровня политически обусловленного насилия со стороны государства. Добавьте к этому ещё ситуацию, в которой любая самостоятельная общественно-значимая деятельность «за проходной» (кроме отдыха и бытовых хлопот) была для системы несколько «неорганичной», «требующей согласования». Похоже это всё не слишком понятно ни зарубежным исследователям и даже нашим молодым соотечественникам. Иначе откуда эти попытки рассматривать СССР как классическую европейскую диктатуру, со всеми её атрибутами типа цензуры, политического сыска, тотальной слежки, запрета оппозиции, разгона неразрешенных собраний, конфискации тиражей и прочими силовыми составляющими. Монополия на идеологию в позднем СССР (в чём-то довольно условная) большей частью не нуждалась в применении насилия, а основывалась на социально-экономическом фундаменте. Это государство было всеобщим и единственным работодателем. Занятно, что в классическом «освободительном» дискурсе насилие над художником (обращаясь к теме свободы творчества) со стороны государства всегда рассматривается как нетерпимое, тираническое, а такое же насилие со стороны работодателя остаётся неприемлемым только в глазах леваков, а для либералов выглядит чем-то вроде «неизбежного зла» или даже законным правом того, «кто девушку ужинает». Имелся ли (вернёмся к началу) дополнительный мотив преследовать, скажем, БГ по причине «несоветскости» творчества? Возможно. Но сажали и «подпольных импресарио», устраивающих «левые» выступления и официальных «звёзд». Градский вспоминал, что деятельность этих людей позволяла артистам получать «не 12 рублей за концерт, а 400». А «цеховиков», владельцев подпольных мастерских наказывали ещё жестче. И это объяснимо. С появлением каждого такого производства росло количество денег, неподконтрольных государству, и людей, не работающих на него. Плюс, росла и коррупция среди руководителей предприятий, заинтересованных в том что бы «кооперироваться» с «цеховиками», например, поставлять им (ворованное) сырьё. «Марксистское» государство придерживалось того мнения, что политическая позиция любого человека обусловлена его социальной принадлежностью и удерживало граждан в рамках своей социальной структуры, не допуская появления и роста контр-системных страт. И это объяснимая позиция. Как только появились легальные миллионные состояния, деньги приобрели некоторый суверенитет и сформировалась прослойка не работающих на государство (и ещё большая полагающая, что они со значительной выгодой для себя могут перестать работать на него) – СССР рухнул. Не единственная причина, конечно, но крайне важная. Советская семья (штрихи к портрету)Не меньше четверти ребят в нашем классе были из неполных семей. Думаю, что на самом деле больше, просто привык быть аккуратным с цифрами. Чем-то необычным это не считалось, и каким-то особым пристальным вниманием со стороны школы они окружены не были, в конце концов, многие наши учительницы был матерями-одиночками. А вот семьи, где один из супругов приходился детям отчимом (мачехой), где-то кем-то «брались на карандаш», и их раз в пару лет навещала специально уполномоченная «педагогиня», разведать «атмосферу, в которой растёт ребёнок». Я несколько раз слышал возмущённые выказывания своих одноклассников: «чего они лезут?!» Кстати, почва для таких тревог со стороны школы (или этим занималось РОНО? ещё кто?) наверное была. Волей-неволей наблюдал это на примере соседской семьи. Отец семейства, персонаж яркий, выглядел по моде 70-х: волосы до плеч, усы до подбородка, тёмные очки, дорогие кожаные пиджаки и 2 метра роста. Работал он бригадиром каких-то непростых грузчиков-комплектовщиков на фабрике, оплата у них была сдельной и получали там, судя по разговорам, рублей 300–400, а то и «генеральские» 500. К герою этому мужики покрепче даже за какую-то мзду устраиваться на работу ходили, кому на машину не хватает, кто жене собрался «шубу покупать», деньги-то немалые. Как кто-то объяснил «это всё равно, что на “Севера” завербоваться, только дома и ненадолго»; долго действительно не получалось, три месяца, полгода, год, подкопит человек деньжат и уйдёт, а бригадир лет 8 отработал, двужильный, наверное. Но и гулял хорошо, любовниц менял часто, соседи сплетничали, что предпочитает интеллигенток или «статусных». Семью, впрочем, не забывал, сына единственного с удовольствием баловал, игрушки, «шмотки», десятки рублей «на мороженое». Жене дорогие подарки делал, да только устала она, видимо, «мужа делить». Развод, и микрорайонный ковбой «без шуму и пыли» исчез куда-то, вроде к маме своей в другой город. Наследнику его уже что-то около тринадцати лет было и нового избранника своей матери, краснолицего, коренастого автомеханика, непьющего, из породы «золотые руки», но заметно «недалёкого» мужика, принял в штыки. Тот, как мог, старался угодить пасынку, но, видимо, не получилось. Парень рос, обгоняя сверстников в росте и силе, занимался единоборствами, и года через три устроил довольно не красивую сцену у подъезда. Стоял его отчим, с соседями разговаривал, подошёл юный спортсмен, поздоровался приветливо, попрыгал слегка, и весело так: «Дядь Коль, ставь блок». Тот, заискивающе улыбаясь, изобразил блок и через секунду рухнул на газон от удара ногой в висок. Соседки охнули, а воспитанник секций, не меняя тона: «Извини, дядь Коль», и дальше пошёл, не дослушав готовного «ничего-ничего, это я сам виноват, крепче надо было встать». 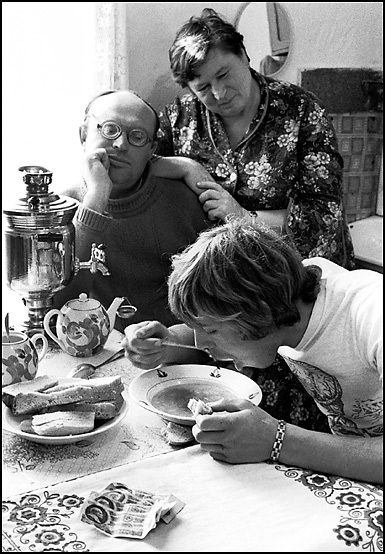
Разводы, к слову, были делом обыденным, первый брак воспринимался как пробный всеми, даже самими молодожёнами. Впрочем, это свойство не только той эпохи, но приметой времени были ранние браки (преимущественно в рабочей среде). И ещё было, то, что, наверное, можно назвать униженным положением мужчины (а, может быть, нельзя так называть). Как-то услышал в электричке разговор двух старушек, выглядели они по-разному: одна «культурная» такая, в беретке, в плаще, другая «патриархальная» в серой шали и в чёрном пальто на ватине, а слова говорили одинаковые. - Мои разводятся. Я с самого начала ей говорила: “ну, куда ты? за кого?”. А сейчас сама всё поняла. Говорит: “мама, права ты была, пока время есть, надо действовать, а с этим кашу не сваришь”. А твои-то как? - Да тоже “не слава Богу”… - А что такое?. - Да непутёвый он, и чудной какой-то. Я его «говнист» называю. Ну, правда, ну, как так?! Пришёл бы как человек, пожрал и сиди, смотри там свой телевизор. Нет, всё чего-то ходит по квартире, куда-то смотрит, нос свой суёт, терпеть не могу! И всё чего-то бурчит, ну, точно – «говнист». Я когда если в комнате сижу, то, как он заглядывает – сразу говорю “брысь отсюда”. - А он?.. - А чего он? Если что, ему Людка так покажет. Даже через столько лет немного жалко этого неизвестного мне узника «бабьего царства». Только не надо писать, что он не достоин сострадания, «вы не будете говорить мне, что я должен чувствовать, а я не скажу…», ну и т. д. Всякие ныне модные «цивилизованности», вроде «участия в воспитании» со стороны «воскресных пап», особой популярностью не пользовались. Многие пары порывали отношения жестко, с «не забуду, не прощу», да «чтоб ты сдох», потому некоторые матери (а ребёнок по суду почти всегда «присуждался» женщине) стремились привить детям прямо таки лютую ненависть к «отцам-предателям». Другие, видимо, полагали, что детское сознание – это что-то вроде листа бумаги с карандашным рисунком, и, если родитель исчезнет, «рисуночек» можно будет и стереть, например, для того, что бы образ нового «папы» запечатлелся без помех. Сценку одну опишу. Сидели мы после школы на лавочке на краю детской площадки, трепались. Тихо было, осень, листопад, малолюдно, только в песочнице мужчина играл с мальчиком лет пяти-шести. И тут вдруг крик: «А ну отойди от ребёнка!!!! Я сказала, что бы я тебя близко не видела?!! Сказала или нет???!!!». Хорошо одетая полноватая женщина на высоких каблуках бежала через всю площадку к песочнице. Подбежала, началась перебранка. Она наседала, мужчина отступал, они по-дурацки ругались в стиле «да кто ты такой, ты никто», «а кто ты такая, что бы говорить, кто я такой» (всё это с умеренным количеством мата). Наконец, на лице мужика появилось такое выражение, будто он хочет плюнуть на всё, развернуться и уйти. Но, вместо этого, он просто развернулся и ушёл. А женщина присела на корточки около мальчика, обняла его и спросила: «Напугал он тебя, маленький?» Малыш не выглядел испуганным, просто грустным и растерянным. Она прижала его голову к себе и, тяжело дыша, приговаривала «никто нам не нужен, никто, ты только мой, маленький, только мой, тебе хорошо с мамочкой». Она ещё какое-то время повторяла на разные лады эти заклинания, глядя куда-то в пустоту, может быть, видя тот волшебный мир, где нет никого, только огромная она и её ребёнок, и своей этой исступленностью постепенно превращала довольно мерзкую сцену из бытовой драмы в почти высокую и чуть жутковатую трагедию…. Религия в СССР (случайные воспоминания)Первая сознательная встреча с «религией» «в реале» (до этого наверняка что-то слышал или видел по телевизору, во всяком случае, слово «священник» знал). Лето, мне восемь лет, я брожу вокруг нашей пятиэтажки, в ожидании Вовки и Димона, которые «щас выйдут», и начнётся любимая «войнушка». И тут я вижу этого человека: высокий парень в джинсах, в расстёгнутой цветастой рубашке, на шее на толстой цепочке виден довольно большой, кажется, медный крест. Эпоха хиппи только закончилась, для парня этот крест, возможно, обычная «фенька», но я, сроду не видевший ничего подобного, прихожу в неописуемое изумление. Как бы вам объяснить: для меня увидеть человека с крестом на шее равносильно было появлению из-за угла колонны белых войск, въезду во двор старинной кареты или приземлению триплана времён Первой мировой. В общем, дико интересно и необычно, нечто из совершенно иной реальности. Такой я был невежественный или наоборот, судя по высказываниям некоторых записных атеистов, правильно воспитанный. Обежав от волнения круг почёта по краю детской площадки, я влетел в свою квартиру: - Бабушка, я человека с крестом видел. - Священника? - Да нет, просто… Идёт с крестом, на цепочке! - Ну и что? И я успокоился, хотя пару раз ещё пытался рассказывать про увиденное разным людям, надеясь вызвать удивление. *** Не знаю, насколько была типична такая ситуация для страны в целом (говорят, что для запада Подмосковья вполне типична), но в нашем городе на неполные 40 000 населения было 2 (прописью: два) «молельных дома евангельских христиан-баптистов» (официальных, с табличками на дверях) и не одного православного храма. Православным оставалось либо ездить в Москву, либо ходить за несколько километров в сельскую церковь.  Примерно такой молельный дом был в двух шагах от моей пятиэтажки. Сейчас на его месте добротная кирпичная «кирха» Примерно такой молельный дом был в двух шагах от моей пятиэтажки. Сейчас на его месте добротная кирпичная «кирха»
Каждое воскресенье я видел из окна вереницу людей, преимущественно женщин старше сорока, и не сразу додумался спросить «кто они?» Оказалось, баптисты (один из молельных домов был совсем недалеко). К слову, они отличались особой скромностью в одежде. Обычные советские горожане, а тем паче горожанки, за исключением совсем на себя рукой махнувших, были, по мере возможности, чуть щеголеваты, а тут серые шали, чёрные пальто на ватине, на малочисленных мужчинах длинные коричневые болоньевые куртки, похожие на телогрейки, и всё застёгнуто на все пуговицы, как-то подчёркнуто что ли. В руках у многих полные хозяйственные сумки, по догадкам соседей, там были продукты для совместных чаепитий. Как к ним относились? Да большей частью никак, плохо укладывались они в принятую «парадигму», так что многие их вовсе не замечали, хотя меньшинством они были достаточно представительным. В моём классе учились две девочки из баптистских семей, заведующая единственным универмагом была, по слухам, баптисткой и некоторые её сотрудники тоже (места считавшиеся «тёплыми»), а ещё время от времени становилось известно, что кого-то из общины повязали при встрече с эмиссарами от американских единоверцев. Для начальства местного протестанты были, по всей видимости, чем-то вроде чуждых, но почти привилегированных инородцев. Одна наша знакомая, тётка немолодая и с тяжёлым характером, когда ей наскучило ходить на первомайские и прочие демонстрации, не долго думая, сообщила своему директору: «Мне моя вера запрещает, я в секте состою». Отстали сразу, и настороженная вежливость в обращении появилась. Т.е. поведение низового «руководства» было примерно таким: баптисты, может, и нелояльный «элемент», но ими органы компетентные занимаются по своему усмотрению, вера у них, опять же, американская, дела международные, внятных инструкций «что делать» никто не даст, так лучше от всего этого подальше держаться. Допускаю, что где-то их исподтишка ущемляли (в «списках на получение» чего-нибудь передвинут, премией обнесут), зато корректность в обращении появлялась подчёркнутая, благодаря тому отсвету, который бросало иноземное происхождение конфессии. «Репутация страны Советов в мире» и т. д.. Православным такие привилегии не полагались, ибо хоть и заблудшие, но свои, чего церемонится. Меж тем ситуация, когда власть с тобой на «Вы» подчас более чем желательна. Заодно случай расскажу; не слишком приятное воспоминание, ну, да ладно. «Эпоха пышных похорон», первые учебные дни после траура по Черненко или Андропову, девчонку из баптистской семьи пробило по какому-то поводу на хохот, заливается, остановиться не может, обычное дело для людей молодых. Она смеётся, все над ней посмеиваются, одноклассник Сашка «прикалываться» начал, дескать, такое горе в стране, а ты ржёшь. Мы с Сашкой по-приятельски пикировались и, с карикатурно-важным видом, я в вставил своё лыко в строку: «Александр, оставьте в покое человека, какое дело баптистам до наших прискорбных событий?» Молчание это повисшее я надолго запомнил. И взгляды недоуменные и то как покраснел багрово тоже… Кстати, о вышеупомянутой сельской церкви: пройдут годы, и я узнаю, каково было прихожанам того времени. Дорога до церкви одна – по обочине шоссе. Летом ещё ничего, а весной, осенью, зимой во время оттепели прогулка становилась делом тяжким, идёшь по слякоти, а над дорожным полотном весит серое грязевое марево из выхлопных газов и брызг из-под колёс, а уж если лужи – пришёл из храма и всю одежду в стирку. Не мука крёстная, а всё ж «отношение вырисовывается»... В общем, когда я услышу утверждения о том, что в СССР Православие находилось в привилегированном положении — усмехаюсь криво, «вы при своём мнении, я при своём». *** Не знаю чему приписать, безрелигиозному воспитанию в семье или атеистическому образованию в школе, но лет до одиннадцати-двенадцати я испытывал к любому проявлению религиозности чувства весьма сильные: смесь страха, отвращения и непонимания. Обыкновенная фобия, такая же, как боязнь птиц, воды или, например, синего цвета, «уберите это от меня немедленно», «мне не приятно это видеть», «толком не могу объяснить почему, но боюсь». Я, скажем, перестал общаться с одной родственницей, которая начала ходить в церковь, испытывая совершенно иррациональный ужас, который и объяснить-то не мог, что-то типа «а вдруг кинется?». Поэтому, я преимущественно молчу, когда слышу эмоциональные, на грани истерики, высказывания наподобие «религиозные чувства нормального человека нельзя оскорбить, так как у нормального человека нет религиозных чувств» или «если для вас Рождество это праздник, а не обычный выходной, то вы опасно больны». Споры о допустимости Веры, о вмешательстве Церкви в дела мирские, о «клерикализации» и т. д. большей частью беспредметны: фобия она и есть фобия, само существование раздражителя заставляет больного испытывать страдание, все доказательства безопасности тщетны. «Мне плохо в присутствии этого» — убеди, что хорошо?! Впрочем, когда «богоборцы» предаются садистическим фантазиям, что нужно сделать с «религиозниками», что бы мир опять стал комфортным (больше двух не собираться, вслух о своей вере не говорить, обязать носить жёлтую звезду на одежде, покаяться перед «меньшинствами», сдавать зачёты по научно-фанатическому атеизму, снести храмы и т. д.) это уже не болезнь, а порок (сугубое «имхо»). Если кому случайно интересно, лет в 14 всё «воинственное безбожие» ушло как-то легко и само собой, немало поспособствовало тому чтение запоем классической и не очень литературы, преимущественно XIX века. Я, кажется, даже момент помню, когда осознал произошедшую перемену. Раскрыл повесть Шишкова «Тайга», а там эпиграф, если не путаю, «Нова же небесе и новы земли по обетованию Его чаем, в них же правда живет». Дальнейшее оставлю за кадром... *** Мимолётное: поймал себя на том, что мне не легко воспринимать Собор Василия Блаженного, как храм. Слишком растиражирован был его образ в качестве одного из символов советской Москвы. *** Ещё мимолётное: я не увидел кинофильм «Блондинка за углом» когда он вышел в прокат, поэтому долгое время оставался в неведении относительно того, что крестные ходы в период Позднего Застоя были дико модными тусовками. Не к той среде принадлежал, вероятно... *** Сейчас вспоминают о том, как широко и с государственным размахом в 1988 году отмечали 1000-летие крещения Руси. А ещё в 86-м у нас в школе в «уголке атеиста» наставление висело, о том, что «реакционные церковники готовятся праздновать так называемое крещение» и т. д. И всё прогрессивное человечество должно дать отпор и т. д.. Очень меня удивила эта листовка, как это так: разрешённая властями организация делает то, что властям не нравиться, а они против этой деятельности ведут агитацию? «Все в государстве, ничего вне государства, ничего против государства», не нравится – запретите. Зачем эти обращения к сознательности «низов»? А в 1988-м всё было несколько иначе. На снимке «кооперативный» значок, выпущенный к событию. «Но это уже совсем другая история…» 
Советский парламентаризмНаверное, можно сказать, что если под «парламентом» понимать законодательную власть в строгом (а уж тем паче «идеальном») смысле слова, то в СССР его просто не было. Реальным властным органом, возможно, являлся разве что Президиум Верховного Совета, от имени которого издавалась огромная масса регламентирующих документов, по крайней мере, достаточно вспомнить, кто был его руководителем с 1977 года. Впрочем, уровень и степень влиятельности и самостоятельности тех или иных властных институтов – тема отдельного (и не моего) исследования. 
Конечно, советские депутаты не были выдвиженцами территориальных общин, а назначались сверху. Власть вообще предпочитала не допускать возникновения никаких значимых коллективов, кроме созданных её самой для решения ею же поставленных задач, такое вот сложное понимание коллективизма (см. очерк «Работа и отдых»). Тем паче не могло идти речи о «законодательном процессе» с непременной борьбой фракций, закулисной торговлей, лоббированием и т. д. (не мне судить хорошо это или плохо). Но существование Верховного Совета СССР, а так же советов и советиков различных уровней не было таким уж абсурдным. Имелась у этой системы и внешнеполитическая функция, и репрезентативная, и пропагандистская, и функция структурирования элиты и т. д. А главное – советский «парламентарий» мог быть участником унылого шоу, произнося с трибуны не им написанную речь про удои и умолоты (срежиссированность и даже отрепетированность «законодательного процесса» в СССР, кажется, никто особенно не отрицает), но это не делало его полным нулём. Более того, многие оставили по себе добрую память. Не знаю, как осуществляли свою деятельность высокопоставленные нардепы из числа видных руководителей, многозвёздных генералов или маститых писателей; подозреваю, что и они могли быть небесполезны для своих избирателей, но те, о ком я слышал, были совсем простыми людьми из числа «смешных» «доярок и кочегарок». Почему-то в тех историях фигурировали, в основном, женщины, работницы фабрик или строек, назначенные представлять «трудящие массы». Судя по описаниям, немолодые, полноватые, в «деловых» трикотажных костюмах и, наверное, по тогдашнему обыкновению, с шестимесячной завивкой на голове. Им была поручена работа, и они старались выполнить её, в меру своих сил и разумения, хорошо. Депутат (уж в русском обиходе точно), это не просто представитель, а ещё заступник, точнее ходатай. Вот к ним, как к ходатаям, и шли, им писали, «помогите, защитите, походатайствуйте», и, знаете, помогало. Разные это были просьбы: кого-то несправедливо передвинули в списке очередников на получения жилья, кого-то уволил начальник-самодур, жители маленькой окраинной улицы просят заасфальтировать её и поставить хотя бы один фонарь, в дальнем селе развалился клуб, ветерану нужна инвалидная коляска…. И так далее и тому подобное. Депутаты разных уровней были каналом связи с властью, особенно удобным для тех, кто не разбирался в правовой и административной системе государства (а таких «неразбирающихся» всегда было и будет немало). Кстати таким же каналом была и пресса, особым жанром стали письма в «дорогою редакцию». То есть, если полагать парламент механизмом обратной связи «населения» и власти, то советский депутатский корпус, при всём своеобразии его способа комплектации, эту функцию отчасти исполнял. А если предположить, что бесконечные обращения граждан со своими маленькими, но очень важными бедами и проблемами, где кем-то систематизировались и анализировались, то можно также говорить и об исполнении некой представительной функции. Крах «социально-однородного» общества (часть 1)Оговорюсь сразу, в первой же строчке: я не веду в этой заметке речь о советском властном классе (т. н. «номенклатуре») и примыкающих к нему привилегированных группах, скорее это попытка разговора о том, как менялся социум, в том числе и благодаря усилиям этой самой номенклатуры.  Демонстрации трудящихся – символ единства советского общества Демонстрации трудящихся – символ единства советского общества
В любом обществе, из когда-либо существовавших в истории, кроме иерархических разделений по принципу господин-раб, начальник-подчинённый, аристократия-простонародье, эксплуататор-эксплуатируемый и т. д. были дефиниции по признакам, не связанным напрямую с отношениями властвования или извлечения прибыли. Например, во многих культурах «городские» возвышались над «деревенщиной»; всегда были, нередко малопонятные на сегодняшний взгляд, деления на «позорные» и «почитаемые» профессиональные или субэтнические группы и т. п. Этих признаков, по которым могло происходить подобное разделение, великое множество: в их основе оказывались, например, представления о редкости свойств, приписываемых той или иной страте, сложившиеся мнения о её априорной лояльности к власти или обществу в целом, специфика межгрупповой комплиментарности, да хоть лестное или критическое упоминание социальной группы в национальном эпосе. Не было исключением и советское общество до 60-х годов включительно. Кроме естественного деления на «верхи» и «низы» («начальство» и «трудящиеся»), там существовало масса статусных различий между классами. Нижний уровень – крестьянство, «колхозники», беспаспортные и имевшие в некоторые периоды столь специфические взаимоотношения с государством, что выражение «второе крепостное право» из публицистической «обзывалки» переходит в ряд корректных терминов (другой вопрос – оправдано ли было такое положение, и что являлось альтернативой ему). «Середина» – полноправные (в рамках существовавшего на тот момент права и особенностей его применения) и даже формально привилегированные промышленные рабочие, и в ряде аспектов близкие к ним по статусу рядовые совслужащие (преимущественно без высшего образования). Выше их – интеллигенция, бывшая, по сути, элитарной группой. Даже фельдшер или учительница начальных классов не чета «работяге» («это ж сколько книжек надо прочитать, голову сломаешь»), при них смолкал мат и тушили цигарки, плюс платность высшего образования и некоторые другие факторы. И при этом, вместе с остальной элитой, терроризируемая, т. е. устрашаемая, но не уничтожаемая. Террору этого рода, повторюсь, интеллигенция подвергалась именно из-за своей фактической элитарности и благодаря ей, а не с целью истребления или хотя бы социального унижения.  Врач – друг народа. Разница между человеком образованным и «простым» ещё очень велика Врач – друг народа. Разница между человеком образованным и «простым» ещё очень велика
Это свидетельство того, что режим, с одной стороны, был заинтересован в этом сословии, а с другой стороны не полагался на его добровольную лояльность, ибо отдавал себе отчёт в том, что интересы, ценности и логика режима либо прямо противоречат интересам, ценностям и логике интеллигенции либо находятся за пределами её понимания. Для сравнения, можно вспомнить судьбу сословия, в котором режим не нуждался – казачества: его социальная ниша была ликвидирована, и если бы не субэтническая проекция от него осталось бы так же мало как, например, от купечества. Впрочем, в той или иной степени, таковы были отношения власти и любого класса советского общества, именно поэтому власть вынуждена была не только подавлять, а с корнем вырывать любые зачатки самоорганизации, любые попытки сформулировать свои интересы, в силу их заведомой контрреволюционной, эгоистичной, мещанской, в общем вредоносной направленности. Результатом такого подавления стало общество людей, которых молодые радикалы называют (на мой взгляд несправедливо) «овощами» (впрочем, сейчас не об этом)
Повторюсь, я не затрагиваю вопрос о номенклатурном классе – это в другой раз. Замечу только, что формально властный класс, консолидированный в верхушке Коммунистической партии, считался авангардом пролетариата и трудового крестьянства, выразителем (вне зависимости от реального происхождения) его ценностей и интересов. Итак, мы видим достаточно жестко иерархизированное общество, правда, с крайне специфической правовой практикой и другими особенностями, не позволяющим назвать его «традиционным». Линию на построение «общенародного государства» и «бесклассового общества» обычно связывают с именем Хрущёва. Замечу, кстати, что хотя она, конечно, была не безальтернативна, но являлась абсолютно логичной в рамках советской парадигмы. Её реализация должна была в итоге привести к чему-то совершенно небывалому: к созданию статусно однородного и при том (и благодаря тому) высоко консолидированного социума. Впрочем, есть люди утверждающие, что именно Сталин «ставил задачу о воспитании нового класса рабочих, когда у станка будет стоять человек с высшим образованием, когда сотрется грань между трудом рабочего и инженера, между городом и деревней». Не буду спорить: проникновение в тайные помыслы Вождя – это особый жанр (доводилось читать что и колхозы-то он хотел распустить, и Аляску вернуть, и Берию расстрелять, и Романовых позвать), в конце концов, авторство в данном случае не принципиально. Одним из главных условий создания вышеупомянутого социально однородного общества была минимизация, практически полное устранение межклассовых барьеров. Получение высшего образования или переезд из деревни в город стали относительно простым и безпроблемным делом (насколько это вообще возможно). Пожалуй, впервые в истории человек смог выбирать социальную группу (но не уровень в ней), руководствуясь только своими предпочтениями и способностями. Не происхождение, ни состояние банковского счёта, ни местожительство, ни потребности общества не могли стать серьёзным препятствием. Казалось бы, при таких «прозрачных границах», уровень социальной дисгармонии, взаимного непонимания должен быть минимальным, но последствия оказались совершенно другими. Но сначала попытаюсь описать этот процесс и его последствия (все дальнейшее будет являться исключительно личным мнением автора). Образец, носитель признаков «базового уровня», под который начали «рихтовать» социум, это, скорее, уже упомянутый промышленный рабочий (что и естественно для СССР), но совершенно по-новому «прочитанный». Теперь это не мрачноватый «боец трудового фронта», а просто «работающий горожанин» из всесоюзных «Черёмушек» (название этого московского микрорайона стало символом нового быта). Сословно-профессиональные группы нового общества нужно было тем или иным способом приблизить к статусному уровню «базы».
Если дать беглую характеристику тому, как преобразовывались классы-сословия советского общества с тем, что бы в перспективе составить социум нового типа, получится слендующая картина: Итак, пролетарий становится «работающим горожанином». С перспективой получения (в порядке очереди) квартиры, дачного участка, приобретения автомобиля (если повезёт), доступом к качественному образованию и медицине и т. д. К слову, называть эти квартиры прочие «блага» «бесплатными» и, тем паче, попрекать их «халявностью» – неправильно (имхо). Де-факто, это были натуральные выплаты, этакие большие «бонусы», иногда авансовые, но большей частью сделанные по результатам многих лет работы на государство-завод. А то, что размеры и сроки этих выплат зависели не только от величины личного трудового вклада, но и других, прежде всего социальных, факторов, кардинально ничего не меняет. В конце концов, «все всё отработают, никуда не денутся». С крестьянами ситуация несколько сложнее – их «уравнивание в правах» и в образе жизни пошло по линии превращения в сельскохозяйственных рабочих в самом прямом смысле слова, от нормированного рабочего дня до коммунальных удобств. Главное: крестьянин должен, наконец, перестать быть мелким частным собственником, чередующим «работу на себя» с колхозной «барщиной». Для достижения этой ситуации были произведены «урезания по калитку» приусадебных участков, изменены цифры закупочных цен и величина налогов, уничтожены сотни тысяч русских деревень, а их обитатели переселены в так называемые «центральные усадьбы». Кстати, это были относительно комфортабельные агрогородки. Те, что я видел, выглядели в основном так: несколько улиц деревянных изб, оставшихся от прошлой жизни, а центре квартал-другой пятиэтажек, клуб, пара магазинов, почта, детсад. Живи-не хочу, только на деле получалось, что этот «недогород» люди покидали с ещё большей лёгкостью, чем свои «отсталые», «бесперспективные» деревеньки. Вообще, говоря о Деревне, нужно, на мой взгляд, помнить следующее: с ней можно сделать многое, иногда кажется, что почти всё – можно собрать в колхозы, можно распустить колхозы, можно заставить арбузы выращивать, можно ягель культивировать и т. д. Но ничего нельзя сделать быстро, не понеся огромные потери и не причинив тяжелого вреда. У человека на земле, живущего извечными природными циклами, снижается скорость адаптивности и повышается её глубина. И коллективизация принесла многие потери и много страданий, и отказ от колхозно-совхозного строя повлёк за собой очень тяжелые последствия и едва не добил сельское хозяйство. Как только на селе начинают быстро что-либо, имеющее капитальное значение, менять – народ начинает валом валить в города. «Динамизм» обессмысливает существование «на земле», отлучает от «земли». «Открытость переменам» – привилегия Города (или его грех). Но к слову, вспоминая о хрущёвском «раскрестьянивании», многие забывают одну деталь (мне о ней рассказало несколько независимых очевидцев), а именно: урезание участков и драконовское налогообложение предполагалось скомпенсировать, например, натуральными выплатами (по крайне мере, что-то вроде обещаний такого рода звучало). Действительно, разве не абсурдно (на сторонний взгляд): отработав на свиноферме, животновод идёт домой, что бы там кормить и обихаживать свою свинью? Не проще ли выдавать ему бесплатно или по себестоимости определенную долю произведённой продукции? Заодно исчезнет желание прихватить домой немножко комбикорма. Идея была мертворождённой, она сгодилась бы для начала 30-х, когда колхозы зачастую представляли собой механическое объединение обобществление множества мелких полунатуральных хозяйств в одно среднее и столь же полунатуральное. С наступлением эры крупных высокоспециализированных агропроизводств и специализации на определённых культурах даже целых регионов, обеспечить тружеников села всем «своим, свеженьким» возможности не представлялось. Быть может, и попытались бы создать такую систему натурального продуктового обеспечения, альтернативную советской торговле и потребкооперации, но она технологически оказалась бы труднореализуемой и, вследствие некоторых особенностей, скорее всего, трудноконтролируемой, т. е. злоупотребления и воровство там были бы неизбежны. Теперь об интеллигенции. СССР вообще сплошной эксперимент, но новизна, скорость и необычность трансформации, которую предстояло пережить образованному классу, имеют мало аналогов, разве что коллективизация (даже индустриализация уже несколько «попроще» будет). Со времён незапамятных образование было способом социального возвышения. Ещё не существовало на Земле университетов, а подмастерье, несколько лет перенимавший секреты у известного мастера, знал, что его место в общине, достаток и права будут несопоставимы с тем, что уготовано ученику простого ремесленника, выставленного за порог после усвоения азов промысла. В общем, едва ли не от сотворения мира дела обстояли так, как описал герой одного американского фильма: «Если я не поступлю в колледж – то так и останусь бедным». Конечно, образование не всегда открывало дорогу «на самый верх», но это уже детали. Но стране-заводу, заводу всё более наукоёмкому (ибо он должен был обладать практически 100%-ной интеллектуальной независимостью от Западного мира), нужен новый тип работника – массовый специалист с высшим образованием, «пролетарий умственного труда». Теоретически эта необходимость могла быть удовлетворена через создание ещё одного типа учебных заведений и, как следствие, ещё одного класса-прослойки, или каким бы то ни было иным образом. Но власть предпочла «переучредить» всю интеллигенцию целиком, введя для неё (за малым исключением) совершенно не бывалый дотоле относительный размер и тип вознаграждения и распределения социальных благ и статусов. Вряд ли мы найдём документы, раскрывающие планы властей в отношении интеллигенции, сравнимые по проработанности и ясности замысла, например, с планами коллективизации. Приходится реконструировать логику режима постфактум. Позволю себе привести цитату из моей «беседы» с одним пользователем «Живого Журнала», мне представляется, «поймал» человек, что-то очень существенное, хотя и смотрит на это дело не так, как я: Т.е. выпускник университета приравнивается к неквалифицированному рабочему, что само по себе небывалое дело. Но ещё более удивительно другое – труд доктора наук или руководителя крупного коллектива приравнивается к труду профессионального рабочего так, будто на дворе 1918 год (добавление некоторых льгот, связанных с необходимостью сделать интеллектуальный труд удобней, картины не меняет). Вроде бы сходные перемены на Западе, начавшиеся примерно в тоже время – «омассовение» интеллектуальных профессий и повышение доступности образования – не идёт с этим ни в какое сравнение. 
Переформулирую: талант, университетско-институтские знания, способность их использовать на практике с точки зрения государства-работодателя (почти) ничего не стоят. Способности ничего не стоят, например, потому, что достались они от природы, образование потому, что получено опять же бесплатно, но уже не от природы, а от «системы». При том, что уникальность таковых способностей и такового образования совершенно очевидны: если ещё можно сказать, что закончить «Заборостроительный» институт способен почти каждый (хотя, если брать советский период, это будет более чем преувеличением), то приравнивание докторской степени к шестому разряду слесаря – есть игнорирование неравномерности распределения дарований – высококвалифицированных рабочих в некоторых странах 60-70%, а людей с научными степенями доли процента. Т.е. система такова: поощрению, как материальному, так и символическому (статусному), подлежат трудозатраты, умноженные на некий небольшой коэффициент, определяемый квалификацией, коэффициент, не учитывающий или учитывающий в малой степени фактор образования. И логика в этом своя есть, ведь глупо утверждать, что с чисто физиологической точки зрения человек, участвовавший в создании устройства стоимостью миллион рублей, затратил сил в 10 000 раз больше, чем изготовивший деталей на 100 руб. Только весь предыдущий и последующий опыт человечества свидетельствует против такой логики. 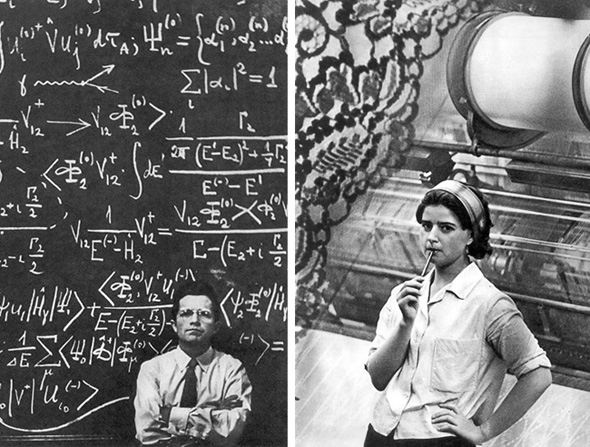
Многие современные «красные» и сейчас полагают, что «правильное» «общество с его школами, институтами» вправе не «дать научному или художественному гению» «присвоить ту награду», которую это общество может и «должно приписать себе». При этом можно сказать, что фактическая материальная дискриминация основной части интеллигенции по сравнению с рабочими, совершенно укладывалась в логику «уравнивания», достижения социальной однородности – ведь интеллигенция и так имеет немало преимуществ: «непыльный» труд и теоретическая возможность дорасти до генконструктора, академика или чего-нибудь в этом духе. Но это если смотреть с большого временного расстояния и взглядом довольно равнодушным, а изнутри той ситуации таковая «уравниловка» выгладила во многих глазах прямым и явным неравноправием. Добавим к этому психологический дискомфорт от выглядевших достаточно абсурдно культурно-идеологических ограничений, касавшихся, прежде всего (если не исключительно), интеллигенции. И не было сделано почти ничего, что бы ответить на возникающие вопросы. Приведу в качестве примера один занятный диалог из «Живого Журнала»: Можно поспорить о том, кто прав в этом случае, можно этого не делать, для будущего результат такого спора вряд ли имеет какую-то ценность. Кстати, нет ли в оценке труда рабочего как «неинтересного, тяжёлого, неприятного», антикоммунизма? Важно другое: крупнейшая, повторюсь, со времён коллективизации, социальная трансформация, изменившая судьбу огромного числа людей, не имела ни внятного пропагандистского обеспечения, ни проработанной идеологии, ни должного анализа последствий, так что нынешним защитникам советского порядка приходится изготовлять аргументы «на коленке», вместо того, что бы процитировать чей-нибудь блестящий научный или хотя бы публицистический труд или указать на то, что «без этого мы бы не выиграли войну»... Я уделяю так много внимания рассмотрению положения советской интеллигенции не потому, что это был единственный или самый важный вопрос. Просто внутренний конфликт, заложенный в самой специфике этого положения, был весьма глубоким, хотя и не единственным (в то же самое время нарастали противоречия между столицей и провинцией, городом и деревней и т. д.). При этом, хочу быть понятым. Не пытаюсь выступать в роли запоздалого прокурора обвиняющего Советскую власть от имени советской интеллигенции – ни той не другой в строгом смысле более не существует. Но и роль адвоката Советской власти, которой, дескать, достался плохой народ, отвратительный образованный класс и вообще дрянная и негодная к обработке человеческая порода, есть позиция совершенно нелепая. Представьте себе инженера, который спроектировал и построил мост без учёта технических характеристик материалов и конструкций. Мост рухнул, а инженер (Софья Власьевна) обвиняет во всём те самые «материалы и конструкции»: не могли, дескать, потерпеть, для хорошего же дела мост-то строили. В известном смысле можно сказать, что у крупных социальных групп нет ни достоинств, ни недостатков. У них есть только особенности, с которыми необходимо считаться. Но, похоже, на это не способны социальные институции, не опирающиеся на сколько-либо давнюю традицию. Вот почему любой прогрессиям всегда будет в чём-то ущербным. Нельзя создать «нового человека», можно только изувечить старого. Вот почему «вина» за то, что власть «упустила» (не «распустила», а именно «упустила») интеллигенцию лежит, прежде всего, на самой власти. Каковы же эти, особенности, которые нужно учитывать? Их немало. Например, к ним можно отнести характер, тип и способ усвоения информации в ходе получения образования. Рабочий учится ремеслу, причём, что крайне важно, обучение в основном идёт по линии «мастер-подмастерье», учебная литература выполняет вспомогательную функцию, главное «делай как я». Мастер человек заведомо земной, «ординарный», его знания соответственно тоже. На них не лежит отблеск «гениальных озарений». Интеллигент же изучает то, что по устоявшимся представлениям является вершиной научной мысли, её блестящими страницами, результатом трудов лучших умов человечества. Гениальнейший математик Икс всю свою жизнь потратил на то, что бы доказать свою Теорему Икса, а у студента Иванова по Теореме Икса «пятёрка», понимаете? Возникает ощущение сопричастности, даже равенства с признанными корифеями. Меняет ли это как-нибудь сознание? Или, если быть точнее, может ли не менять? Как может это не менять сознание? Нельзя было оставлять без внимания интеллигенцию, когда у неё ещё были слабы оппозиционные, тем паче осознанно западнические настроения, а только ещё проклёвывался «комплекс пасынка». Не было сделано ничего, что можно было назвать «грамотной работой, учитывающей специфику вопроса», результат известен. Приведу пример подобных результатов из своего опыта. Я работал в оборонном НИИ, в 90-е, денег не платили вовсе, оставшиеся «фанатики» работали кто потому, что полжизни уже отдано этому делу, кто из-за настоящей увлечённости, кто из-за нулевой социально-психологической мобильности (надеюсь, никто не считает, что за неё нужно наказывать голодной смертью?), кто из гордости, в общем, это было формой «внутренней эмиграции» из того паскудного времени. Так вот в корпусах, где работали эти нищие учёные, я никогда не видел листовок КПРФ (и других «левых»), в отличие от цехов опытного производства, где они присутствовали в обилии. И это не администрация их срывала, просто для этой агитации там, как бы сказать, климат был не благоприятный, наклеят листовочку, глядь, уже нету. Совет, данный пользователем ЖЖ blanqi («Учёным и инженерам нужно было столько работать на «чёрных» работах, чтобы у них исчезло пренебрежение к этому труду и появилось уважение к людям, им занимающимся») не подходит. Именно интеллигенты, способные и кран поменять, и пресловутый гвоздь забить, и в устройстве токарного станка разобраться, часто воспринимали рабочих как неучей «я-то и так и так могу, а ещё и сопромат знаю, и Ремарка читал, а ты?» То обстоятельство, что вклад рабочих специальностей является не производной от объёма потребных «знаний», а заключается в условиях их применения, в монотонных операциях, производимых изо дня в день без перспектив социального возвышения и «перемены участи», но, при этом, с большой пользой для общества, не то что бы ускользало от столь «тенденциозного сознания», но воспринимался этот труд как нечто сущностно чуждое именно данному конкретному индивидууму. Вспомним ещё об одном факторе, совершенно объективном и не зависящем от «режима», «эпохи», «уклада»: фактор усложнения и удлинения технологических цепочек, благодаря которому значение одного звена становиться неочевидным для других, если они достаточно удалены. На ранних стадиях индустриального общества, значение труда образованного человека было в чём-то более очевидным малограмотному рабочему, чем его потомку с десятилетнем образованием. Когда товарища инженера с его чертежами привозят на «эмке», и он отдаёт приказания, в результате исполнения которых на пустом месте возникает цех или мост, всякому понятно, зачем он нужен этот умник, «сам такого не придумаешь, тут учиться надо». А вот зачем нужен очкастый доходяга, который болтается в час пик в одном с тобой автобусе и которому государство-работодатель жалованье положило в два раза меньше чем тебе, вероятно, потому, что этот хмырь работает плохо или не работает вовсе? Вероятно, он совсем не нужен и уж тем паче пусть не возникает с претензиями, что его, понимаешь, толкают и тем мешают читать журнал с надписью «Иностранная литература» на обложке. Справедливо и наоборот: некогда между замыслом конструктора или учёного и его воплощением стояли только парни у станков, в таком случае поневоле хоть немного, но ознакомишься с их трудом, проникнешься его важностью. Когда всё усложнилось, рядовому «пролетарию умственного труда» вольно стало придумывать, что по всей стране станки стоят без дела и под каждым спит пьяный бракодел. Можно ли скорректировать этот (повторюсь, совершенно объективный) фактор, сознательной пропагандисткой работой над сохранением и взращиванием ощущения единой судьбы и единого дела, объединяющего людей разной культурно-профессиональной принадлежности? Неизвестно, но государство-завод, похоже, не считало это проблемой, ограничиваясь заклинаниями типа «все работы хороши, мамы всякие важны», или полагало, что в рамках «социалистической экономики» таковое восприятие прорастёт само. Возникла парадоксальнейшая вещь: ревнивые претензии к власти со стороны одних социальных групп, почему она, дескать, «слишком добра» к другим, составляли значительный блок в списке общих «неудовольствий». Через несколько лет это обстоятельство сыграет большую роль, без его учёта просто невозможно объяснить поведение классов советского общества на рубеже эпох. Ещё один совершенно объективный фактор работал на разрушение столь «удачно» «выровненного» общества. Равенство в пределе предполагает отсутствие единства, утрату нерва «общего дела». Люди, объединённые какой-либо целью, всегда не равны, в таких случаях всегда есть те, без кого «как без рук» и те, кто «с боку припёка». Антагонизм, порождаемый таким неравенством, с лихвой заменяется чувством сопричастности к достойному делу, «метафизическим товариществом». Трудящиеся, празднующие в апреле 1961-го выход человечества в космос, вряд ли стали бы настаивать на том, что бы те, благодаря чьему интеллекту эта победа стала возможной, получали не больше водителя автобуса. Вообще, будет ошибкой утверждать, что «трамбовка» статуса образованного класса являлась шагом навстречу «народному эгалитаризму». Напротив, именно в самом что ни на есть «простом народе» я встречал явное понимание и безусловное принятие связи статуса и образования, естественности того, что каждый год «научения» есть ступень «вверх», «ты в седьмом классе учиться бросил, а это умный человек, ему с тобой говорить без интереса». Так или иначе, но попытка безболезненно «уравнять» интеллигенцию и других трудящихся «в целом», путём создания ситуации, в которой то ли рабочему доплачивают за «тяжёлый и не интересный труд», то ли у интеллигента вычитают, за то, что его труд «лёгкий и интересный» – провалилась, став одной из причин гибели СССР. В той или иной степени это же можно сказать обо всём проекте социально-однородного общества. Уравнивание острого, белого и твёрдого не произошло. Неверен, по моему скромнейшему из мнений был сам приоритет равенства над единством, целостностью социума, которое как раз предполагает иерархию, обусловленную «общим делом». Крах «социально-однородного» общества (часть 2)В первой части я попытался описать меры, посредством которых в СССР создавалось «бесклассовое общество». К таковым, по моему мнению, относятся:
Если попытаться рассматривать, каковы были последствия этих мер, то надо заметить, что многие из таковых последствий не предусматривались действовавшей властью и были для неё совершенной неожиданностью. Не то, что бы нечто подобное нельзя было предугадать в принципе, но… Знаете выражение «молодая советская республика»? Молодость государственного устройства и правящего класса в таких делах всегда плоха. Теоретически, главным следствием, должно было стать возрастание социальной однородности. На деле же, по моему мнению, ни тождественность, ни даже сближение ментального, культурного, интеллектуального, поведенческого облика различных социальных групп не были достигнуты. Это тем более удивительно, что различные страты советского общества имели не только достаточно близкий уровень дохода и обеспеченности квадратными метрами, не только жили в одних и тех же домах по соседству, не только сближались по количеству лет проведённых за партой (10–11 лет рабочий, 14–16 интеллигент), и не только имели возможности легко пересекать межклассовые границы, но и по исходному соцпроисхождению были буквально родными братьями. Это действительно так, ведь фактически новые классы советского общества были учреждены с «нуля», интеллигентские профессиональные династии и аристократические роды старой России остались в прошлом, потомки революционной и постреволюционной элиты, хотя и занимали часто довольно значимые ниши, но были немногочисленны, а средний советский инженер, как и средний советский рабочий происхождения были сходного – дед крестьянин, отец пролетарий. 
Т.е. ни одного из тех факторов, которым обычно приписывают главенствующую роль в размежевании общества по сословно-классовому принципу, не существовало. Ни отношений господства / подчинения, ни взаимоисключающих миров хижин и дворцов, в которых текла бы объективно различающаяся жизнь, ни конфликта толстого кошелька и пустого кармана, ни пропасти между читающими Аристотеля и неспособными прочесть даже ценник, ничего этого в советском обществе не было, но отсутствие этих разделяющих барьеров не сделало его единым. Более того – дистанция субъективная, психологическая между крупнейшими стратами только росла с годами, медленно, но верно. Вероятно, следует сделать промежуточный вывод, что, имущественное расслоение и отношения господства / подчинения не являются первопричиной классовых различий. В реальности, главным, по моему суждению, следствием «нивелировки классов» стало упрощение, если можно так выразиться, внутрисословной структуры ментально-культурных групп. Я имею в виду следующее: в условиях затруднённого перехода из одной страты в другую, волей-неволей в каждой социальной группе оказываются люди с разными запросами, ценностными установками, интеллектом и т. д., ибо определяются таковые не только средой, происхождением, но и природными задатками, восприимчивостью к иносословным влияниям и степенью проникновения таковых влияний и т. д.... Т.е. внутри крупных общественных групп существуют некие невольные «меньшинства», которые по своим интересам, ценностям, наклонностям могут заметно отличаться от большинства и в каких-то своих свойствах быть близкими к другим классам-сословиям (я осознаю неидентичность значений этих двух терминов, но в данном контексте такая небрежность оправдана). Такие люди оказываются коммуникативным звеном между стратами, способными «презентовать позицию», «усилить комплиментарность» или выступить в роли «адвоката». Получается, как ни странно, что при относительно (что важно) высоких социальных барьерах связность общества до некоторой степени увеличивается. Скажем, одной из таких социальных «подгрупп», которые, находясь внутри одного квази-сословия, несли в себе смыслы или коплиментарные заряды другого, была т. н. «рабочая интеллигенция». Приведу пример. Лет двадцать назад я часто бывал в одном рабочем посёлке в весьма дальнем Подмосковье. Так вот рассказы «старожилов» об обычаях и нравах царивших в этом поселении в середине прошлого века меня немного удивляли (и не тем, о чём, быть может, кто-то подумал, никакой «дикости»). Скажем, там, в клубе существовало несколько кружков, в которых занимались самые обычные пролетарии. Фотография, игра на музыкальных инструментах, ещё что-то. Мой рассказчик в 60-х посещал кружок аккордеонистов, и это не было «секцией любителей крепких спиртных напитков» (наоборот они сторонились этого «хобби») или «школой первых парней на деревне» (каковыми, как известно, являлись гармонисты, на тот момент бывшие уже «уходящей натурой», и к ним «мастера аккордеона» относились с иронией). Им было интересно «как устроена музыка», они изучали нотную грамоту (человек кое-что мог сыграть с листа и 20 лет спустя), некоторые ездили на какие-то «смотры-конкурсы». В 80-х такое было уже трудно представить: наследники (биологические и духовные) этих «пролетарских виртуозов» поступили в вузы (не считаю, что это плохо, «я сам, брат, из этих», просто констатирую), а для обычного «нормального рабочего человека» какая-то художественная самодеятельность была чем-то в диапазоне от «на фиг это надо» и «западло» до «фи, непрестижно» и «я же взрослый уже, а не пионер какой-нибудь». Кое-какой популярностью пользовались разве что модные спортивные секции, хорошие курсы кройки и шитья, ну, и любительские ВИА (особый случай, для «лохматой молодёжи»). А в обшарпанных клубах пели и плясали уже только старухи и «энергичные женщины предпенсионного возраста». 
И эти подмосковные аккордеонисты не единственный пример. В 50-х – 60-х на фабрике в нашем городке, говорят, был рабочий театр, наверное, на Вильяма нашего Шекспира «замахивались», ага. Ираклий Андроников в своих телерассказах вспоминал о прекрасно разбиравшихся в классической музыке ленинградских рабочих; понятно, что не все рабочие были такими меломанами, а, вероятно, скромное меньшинство, но оно составляло в концертных залах некоторую заметную часть. Кому-то это любительство может не нравиться (в этом случае привычно вспоминают хор домоуправления из «Собачьего сердца»), но этим же недовольным людям почему-то не нравится и «низкий культурный уровень» «простых людей»; выбирайте, господа, а то молитва «избави нас от мужичья сиволапого» приводит к одичанию избавленных. В 70-х – 80-х от прослойки «рабочей интеллигенции» мало что осталось, впрочем, «последние из могикан» до сих пор шлют из своих сёл и пролетарских кварталов письма с изящно-заковыристыми вопросами в адрес передачи «Что? Где? Когда?» Подобная же судьба постигла и «колхозную интеллигенцию», поправкой на специфику темпов перемен в сельском хозяйстве. Отмечу, что было бы клеветой на рабочих сказать, что они «варваризировались» в результате оттока людей с «проинтеллигентским» вектором, более того, наблюдалось явное «смягчение нравов», но оно достигалось не интеллектуализацией и «приобщением к высокой культуре», а «обмещаниванием», т. е. усложнением культуры бытовой, овладением новыми «технологиями комфорта». Вот промежуточный итог: выбор между городом или деревней, межу получением высшего или профессионально-технического образования, в условиях «снесённых» межсословных барьеров, определялся не наличием способностей к той или иной профессиональной деятельности, а желанием находиться в социальной среде, наиболее комфортной с точки зрения царящих нравов или карьерных перспектив. При этом, исход в «культурные люди» был не единственным направлением «социальной миграции» Существовал, хотя и не столь большой, но существенный обратный поток. Отпрыски высокостатусных «мастеров культуры», конечно, не шли на заводы и фабрики (за микроскопическим исключением), но сын врача или педагога, равнодушный к учёбе и ценностям интеллигентской тусовки, но небезразличный к хорошим заработкам, был вполне обычной фигурой. Плюс часть дипломированных специалистов, вынужденных пойти в рабочие, ради достатка в семье. Примечательны даже не сами масштабы таких «социальных миграций», а их мотивы и легкость, с которой они реализовывались. Благодаря ним «сословия» аккумулировали в себе людей определённого психического склада, культурных запросов, бытовых привычек или, по крайней мере, определённых склонностей в этих областях. «Цветущая сложность», при которой в одном слое встречались люди с разной ментальностью стремительно упрощалась. Социальные группы становились культурно, поведенчески, мировоззренчески более однородными внутри самих себя и всё более отличающимися друг от друга (при отсутствии видимых причин для таковой несхожести). Лёгкость, с которой в СССР можно было «вырваться» из деревни или «выбиться» в число «лиц с высшим образованием» не приводила к размыванию границ между «сословиями». Иными словами: там, где власть вроде бы сравняла разделявшие общество имущественные и статусные «стены», общество само размежевалось, вырыло субкультурные, идеологические и т. д. «рвы». Фактически речь идёт о частичной реставрации «с низу» сословного общества, впрочем, без многих его важных (и положительных) особенностей. Причём подчеркну, процесс, по моему мнению, был спонтанный, ни кем не управляемый.
Как следствие, произошло смещение основ идентичности социальных групп с профессиональной принадлежности в сторону «культуры», «манер», с неизбежным делением людей на «свой» и «не свой» «круги». 
Наиболее тяжело эти перемены отразились на образованном классе, приведя к его превращению в ту самую «интеллигенцию», которую мы все так «любим», с её снобизмом, претенциозностью, комплексом «прогрессора» и «внутреннего иммигранта». В результате, упало значение интеллектуально-профессионального уровня как решающего фактора для обретения высокого или просто достойного формального и/или неформального внутригруппового статуса. Действительно, почему же Владу не уважать Макса? Ну, да, Макс ничего не понимает в расчёте баллистических траекторий, которыми занимается их отдел, он, может, вообще против войны, но зато он «наш», и, к тому же прекрасно разбирается в творчестве групп «Uriah Heep» и «King Crimson». Если бы у нас была нормальная страна, он наверняка стал бы, например, музыкальным критиком или культуртрегером. Но страна не нормальная, интеллигентным мальчикам негде учиться на рок-искусствоведов, поэтому Владик рассчитает траектории сам, а Макс пойдёт, ну, скажем, рисовать комсомольскую стенгазету под названием «Выше знамя советской науки» (кто-то должен этим заняться, комитет требует) и рассказывать в процессе творчества антисоветские анекдоты. Главное, что все мы культурные люди, правда? Почти исчез куда-то тип этакого «лобана», «самородка» из народа, который напрочь не принимает и не понимает ценностей и манер интеллигентской среды, но при этом пользуется заслуженным и всеобщим признанием благодаря своим очевидным способностям.
Вернёмся к процессам в среде интеллигенции. Одним из признаков её деградации было постепенное, фиксируемое многими мемуаристами, исчезновение в 70-х – 80-х годах из «внеслужебного» обихода «профессиональных разговоров». Не «разговоров о работе» – этого всегда хватало: недовольство начальством, карьерные перспективы, «что вчера Серёга учудил», слухи, сплетни, служебные романы, «жизнь коллектива» никогда не исчезают из поля массовых интересов. Речь идёт о заинтересованном обсуждении и анализе статей в отраслевой или научной печати, технологических новинок, перспектив развития предприятия, отрасли или научного направления, их роли и места и т. д. Нельзя сказать, что такие обсуждения исчезли совсем, «в ноль», но они перестали быть важным «ритуалом», участие в котором (не по служебной надобности) имело бы большое значение для утверждения «не-случайности» своего нахождения в рядах людей «образованных и умных». Те же процессы отчуждения от профессии, смещения принципов индикации «свой-чужой» в область культурно-психологическую, происходили и в рабочей среде. Советская печать с тревогой констатировала: достойному, мастеровитому, работящему пролетарию стало не зазорно приятельствовать с бессовестным бракоделом, если тот «хороший парень» или «свой мужик». Заставить людей оказывать друг на друга давление в интересах «общего дела» позднее пытались посредством «бригадного подряда». Возможность выбирать не столько профессиональное поприще, сколько социальную нишу «по душе» привело не только психологическому «окукливанию» больших групп, но и менее крупных. Как-то слышал, как отзывались рабочие фабричного конвейера о водителях грузовиков. Было полное ощущение глубочайшего «ментального отторжения». Лучше всего иллюстрируют это размежевание базовые мифы одних «сословий» о других. Причём, что важно – эти «мифы» не только представляют взгляд «этих на тех» и наоборот (взгляд зачастую довольно карикатурный), но и являются ценным материалом для анализа представлений той или иной группы о социуме в целом, своём месте в нём. Если «они», например, «работяги» – ленивые алкаши, несуны и гопники, значит мы (положим, «интеллигенция»)… нет, не законопослушные трезвенники, это было бы слишком просто, но, скажем, разумные, культурные люди без вредных привычек, «которых так мало в этой стране». За это не грех и выпить, благо спирт в лаборатории халявный. И наоборот, ежели «они» (допустим, «инженерА») болтуны, бездельники, протирающие штаны и (усилим) «педерасты», то «мы», не то что бы линейно – немногословные работящие натуралы, но, во всяком случае, «нормальные мужики», на ком все эти «тунеядцы» (коих список длинен) «ездят». Самоидентификация не то что бы очень лестная, зато позволяющая простить себе очень многое. Такие воззрения разъединяют людей лучше любых «материальных расслоений». Нынешнее положение вещей, когда в Сети полно «гражданственной лирики» типа «вчера ехал в трамвае и видел издали со спины двух рабочих – какое страшное и убогое зрелище, сколько в них агрессии и вырождения» и дальше вагон сочувственных комментариев наподобие «как страшно жить, ужасная страна» (при этом и «аристократичный» автор и «умные и тонкие» комментаторы каждый день пользуются трамваем и живут в хрущёвках, полученных дедушками за работу на условном «механическом заводе») – всё родом из тех лет. Добавим к этому сочетание нескольких факторов. Специфика исторической России состоит в чрезвычайно дробной сословной (субсословной) структуре, одних «крестьянств» насчитывалось в некоторые периоды несколько (государственные, помещичьи, монастырские крестьяне, «вольные хлебопашцы» и т. д.) и каждое со своим отдельным правовым статусом и внутренним укладом. У нас не было ни общенародного тяглового «третьего сословия» (суперсословия), ни опыта существования полисословных территориальных «коммун». Исторически русский человек взаимодействовал и сотрудничал напрямую преимущественно с теми, чей имущественный и правовой статус был совершенно идентичен его собственному, коммуникация с другими социальными группами (и даже подгруппами) была либо односторонней (порой, по принципу «вы начальники – мы…») либо осуществлялась при посредничестве государства или рынка. И вот, на такую традицию наложилась советская идеология с её установкой на безнравственность, неприемлемость любого неравенства. Плюс объективный фактор усложнения и удлинения технологических цепочек, благодаря которому значение одного звена становиться неочевидным для других, если они достаточно удалены. Получим общество, где понимание взаимозависимости и «взаимо-нужности» различных «сословий» либо очень низкое, либо вклад «своей» группы считается недооценённым, а вклад «чужой» переоценённым. Недооценённым и переоценённым, отметим, со стороны власти, каковой это ставилось в вину, причём, столь жёстко, что приводило к полному отчуждению, к отказу в поддержке при любых обстоятельствах. Пытаясь объяснить события конца 80-х – 1991-го – 1993-го годов, мы будем разводить руками, или уныло-мрачно вещать про «зомбирование», если не станем учитывать эту «расслоенность» социума в купе с ревнивыми счетами к власти-мачехе. Фактически, уже к примерно к 1990-му году появились признаки того, что крупнейшие страты «сознательно» (насколько можно говорить о «сознательности» групп) сделали ставку на катастрофу. Вспоминается старый анекдот: Муж и жена едут на машине. Жена в ярости: «Я с тобой разведусь и всё у тебя отсужу, квартиру отберу, авто возьму себе, дачу тоже. Что ты молчишь, ты же нищий, бомж, у тебя ничего не будет» - А у меня всё уже есть. - Что у тебя есть?! Я тебя всего лишу! - Что нужно, то и есть. - Что же?! - Подушка безопасности – сказал муж и направил автомобиль в дерево. Руль, конечно, был «у кого надо руль», а вот массовая уверенность в наличии избирательных подушек безопасности присутствовала; тогда это называли «групповым эгоизмом». С интеллигенцией всё более-менее понятно: от крушения «Совка» она ожидала освобождения от идеологических пут, отмщения за нанесённые раны (от убийства Гумилёва до собственного маленького страха из-за которого не решился попросить почитать «Архипелаг ГУЛАГ» и так и остался «непродвинутым» вплоть до «Перестройки») и, естественно, превращения из сторублёвого инженера или менеэса в «mr. dr. Ivan I. Ivanoff». Настроения среди рабочих были, по моим наблюдениям, более реалистичными («накроется всё медным тазом»), но так же отличались «катастрофическим оптимизмом»: «колхозники пьянь, интеллигенция дрянь, а мужик с руками и головой работу себе всегда найдёт». В 1990-м спокойно так уже говорили: «Хозяин на завод придёт? А что хозяин? Тот же начальник. Это конторские пусть боятся, их, бездельников, вон сколько, а без нас никуда не денется, кто иначе работать будет?» Плюс самонадеянность крепко стоящего на ногах «работающего горожанина», и отрывочные сведения о «пролетарском самосознании» в качестве «приправы». В крестьянстве «ставка на катастрофу» просматривалась ещё более отчётливо: «война придёт – хлебушка попросят, вспомнят как деревню-матушку гнобить». Самые недобрые, в отчаянии от наступающего безвременья, ожидали полного краха, после которого надменные «городские» на брюхе приползут выменивать чуть ли не золотые слитки на гнилые картошины. Добавим к этому то обстоятельство, что Крестьянство смогло выдвинуть свою интеллектуальную элиту в лице «деревенщиков», которые сформулировали идею морального превосходства сельского труженика, превосходства обретаемого через близость к Земле-Кормилице и делу предков. Их тезисы (в искажённом виде) были подхвачены публицистической и медийной «попсой» (статьи про «крепких мужиков»-арендаторов, песни типа «Снится мне деревня» и т. д.). Стоит ли удивляться тому, что не только конкретный «режим», но и институт государственности как таковой оказался лишённым массовой «низовой» поддержки? Вот таким, как мне кажется, вступило наше общество в 1991-й год, который оказался годом настоящей революции, т. е. события меняющего всю социальную структуру, общественный, политический и экономический строй. А в революции проигрывают все (по крайней мере, на первом этапе), все кто сохранил свою принадлежность к прежним социальным группам, не «перепрыгнув» в новые (или обновленные), в данном случае, такие как предпринимательство, «политический класс», «медиа-элита», «криминалитет» и т. д. Но мало того, после 1991-го года стране пришлось вплотную познакомиться с «глобализацией», суть которой для человека наёмного труда заключается том, что старое правило «за морем телушка – полушка, да перевоз – рубль» более не действует. Люди, полагавшие, что их знания, интеллект, умения, рабочие руки не могут быть не востребованы при любом режиме, столкнулись с ситуацией, когда они оказались на долгие (и страшные) годы не нужны никому даже как объект эксплуатации, ибо куда интереснее, точки зрения получения быстрой прибыли, оказалось распродавать созданное или освоенное ранее, а всё необходимое приобретать там, где оно стоит «полушку» (или, где лучше с логистикой и грамотнее оформляют «откаты»). Собственно один из самых невероятных экспериментов Советского периода – проект «Социально однородное общество» в этой временной точке и был окончательно утилизирован. Чаепитие в НИИСпорить с утверждениями из разряда «это все знают» или даже комментировать их, дело не то что бы сложное, а «вязкое» какое-то, что ли. «Все знают», что в советских НИИ «никто не работал, а только чаи гоняли». Поди докажи, что там не было не одного бездельника, и чая никто в глаза не видел. Тем паче, что я, признаюсь, собственно советские НИИ застал только мальчишкой. Лет в одиннадцать по «Гидропроекту» шлялся (не смотря на «режим»), на 25-этаж на лифте катался на Москву с «высоты птичьего полёта» смотреть, и прочие сентиментальные воспоминания. Во времена постсоветские, пришлось, правда, поработать в системе и пообщаться со многими людьми и некоторых из них имею честь назвать своими друзьями, но это, конечно, не та «степень погружения в материал». Но всё же позволю себе поделиться с вами своими замечаниями на этот счёт. Замечание 1. Почему всё же так живучи эти рассказы, повествующие о том, что именно в НИИ «никто не работал, только штаны протирали» и прочие «чаи с тортиком». Что заставляет людей, которые и социально, и поколенчески и даже территориально безнадёжно далеки от давних праздных «менеэсов», воспроизводить эти обороты с какой-то особенной уверенностью в собственной осведомлённости. Реальность-реальностью, а где причина распространённости и укоренённости этого убеждения? Ведь не оброс таким количеством штампов облик транспортных рабочих или стеклодувов. Кому и почему важны эти «мифы»? 
По моему убеждению, представления одних социальных групп о других имели в времена позднего СССР немалую роль в их самоидентификации. То есть, если «они», например, «работяги» – ленивые алкаши, несуны и гопники, значит мы (положим, «интеллигенция»)… нет, не законопослушные трезвенники, это было бы слишком просто, но, скажем, разумные, культурные люди без вредных привычек, «которых так мало в этой стране». За это не грех и выпить, благо спирт в лаборатории халявный. И наоборот, ежели «они» (допустим, «инженерА») болтуны, бездельники, протирающие штаны и (усилим) педерасты, то «мы»…. не то что бы так уж линейно – немногословные работящие натуралы (хотя и это тоже), но, во всяком случае, «нормальные мужики», на которых все эти тунеядцы (коих список длинен) «ездят». Самоидентификация не то что бы очень лестная, зато позволяющая простить себе очень многое. Т.е. мы имеем в лице инженера-тунеядца образ, востребованный социальным мифом, а, следовательно, живущий собственной, во многом обособленной от грубой реальности, жизнью. Замечание 2. Естественно, было бы несправедливо сводить всё к феномену социального мифотворчества. Ведь о «НИИшной халяве» говорят не только «пролетарии» или «офисный планктон», но и люди, отдавшие науке некоторую часть своей жизни. Подчеркиваю: не пытаюсь исчерпать тему, не обвиняю ни кого в предвзятости, но хочу на этом примере указать на одну особенность национального сознания. Что такое «Настоящая Работа» в восприятии нашего современника-соотечественника? Зачастую нечто совершенно легендарное по своей трудности, тяжести и трудозатратности. «Спал на клавиатуре», «по три смены без выходных», «забыл, как дети выглядят», в общем, нечто такое, что съедает жизнь целиком, взамен обещая, в лучшем случае, повышение по службе, а то и просто надбавку баксов в сто, и хорошо, если не приводит на больничную койку с производственной травмой вследствие переутомления или с неврозом. «Дни и ночи у мартеновских печей» только не ради Родины, а ради чей-то прибыли и своей в ней дольки. Это всё, конечно, не значит, что к «Настоящей Работе» все стремятся или выполняющих оную боготворят, но «развести» почти любого лентяя на утверждение, что «Настоящая Работа» это непременно «рваные жилы» — дело, как правило, нехитрое. Бытование таковых представлений в «простом народе» можно списать на «сталинизм» или «крепостное право», но не отстаёт и вестернезированный средний класс, «меряет труд усталостью». В сети немало откровений доморощенных дарвинистов-карьеристов на тему «мой путь к фантастическому успеху». Что-то вроде: «я работаю по двадцать часов сутки, остальные 4 учусь, получаю высшее / второе / третье / МБА, не сплю вообще, только если с теми, кто нужен для дела, зато я могу выплачивать ипотеку за однушку у МКАДа, умрите, ленивые нищеброды, от зависти ко мне, просвещённому европейцу». Настоящие европейцы, которые протестуют против 40-часовой недели или вообще – живут при 32-часовой, вряд ли поймут оды, которые поёт своему прессу выжимаемый лимон, но его это мало заботит.
Отсюда вытекает моё критичное, недоверчивое отношение к воспоминаниям о всеобщем безделье и вообще к разговорам о том, что у кого-то где-то «не работа, а халява». Смотря с чем сравнивать. Один мой дальний родственник на вопрос «трудно ли ему учиться?» отвечал «легкотня!». При этом парень «ботанил» по-чёрному, работал, подрабатывал и вообще – спать-то ложился не каждую ночь. Но всё равно – «легкотня». Ещё бы: жив, молод, голова варит – чего же жаловаться. Так что любое «у нас ваще халява», применительно к работе, может, кроме оплачиваемой праздности, означать, например, следующее: - «смотри, я двужильный» - терпимо - знавали времена похуже - зато коллектив хороший - я не настолько хорошо вас знаю, что бы мне захотелось делиться с вами своими проблемами (И в этом случае «халява» по смыслу приближается к американскому o’key) и прочее… От рассуждений на социально-психологические темам – к дилетантским рассуждениям же на темы социально экономические и технологические. Замечание 3. Если говорить о прикладной науке (а к ней, имхо, в той или иной степени относилась львиная доля научных учреждений), нужно помнить, что огромные отраслевые советские НИИ – это нервные узлы гигантских, небывалых промышленных министерств–мегакорпораций. Размеры этих научных учреждений были продиктованы масштабами этих индустриальных «монстров». Для устойчивого функционирования таких структур необходимо, например, скрупулёзное, подробное документирование всех процессов, продуманная стандартизация всей продукции и т. д. Когда в Евросоюзе озаботились унификацией требований к безопасности рабочих мест и то количество «бумаг» и штаты специалистов заметно выросли. А тут не безопасность, тут «ваще всё», без права отдать что-либо на откуп «здравому смыслу», «мужикам, которые и так знают, как надо гвозди забивать» и т. д. (то, что в результате к этому «здравому смыслы» и даже «смекалке» всё рано обращались – дело не меняет). И это только одно направление работы: документирование и стандартизация, без которых невозможно регулярное управление в таких масштабах. А ещё собственно научные изыскания, разработка и усовершенствование образцов продукции. Так же заметим, что для решения накапливающихся управленческих проблем тоже создавались научные учреждения, призванные решить эти проблемы (это естественно для системы, где всё «правильное» должно быть научным, от «научного коммунизма» до «научного подхода к питанию»). А ещё затруднительность в этих условиях создания временных исследовательских групп и тем паче применения их результатов и проистекающая из сего необходимость создавать громоздкие постоянные структуры… Люди, рассуждающие в стиле «вот сидят учёные, а чего они открыли?» представляют себе производство в виде чего-то относительно простого наподобие «пекарни в подвале», «кроватной мастерской», «свечного заводика» и т. д. Любопытно, что такие представления были характерны для значительного большинства и в те времена, когда никаких «частных лавочек» не водилось, а, напротив, торжествовала сплошная гигантомания («почему в седьмом цехе заплата выше?» спрашивали рабочие с «крокодильской» карикатуры, указывая куда-то за горизонт, в даль далёкую, где в туманной дымке возвышался 7-й цех, «а у них северная надбавка» — был ответ). Так что распространенная в то время точка зрения, что «нам нужно меньше инженеров, но лучшего качества» (кстати, её в своё время озвучил не кто-нибудь, а Михаил Горбачёв), возможно, не так уж самоочевидно права. Вполне возможно, что для таких монструозных по масштабам организмов как советские министерства-корпорации и «научно-промышленные объединения» нужно было как раз больше инженеров-«нервных клеток» и меньшего качества (и, возможно, меньшего уровня социальных притязаний). В конце концов, поголовье современного «офисного планктона» растёт не потому, что кто-то добрый и большой решил пригреть максимальное число бездельников, а потому, что удовлетворение (и создание) платёжеспособного спроса, наиболее полное его «освоение», требует довольно много мозгов, приспособленных к клавиатуре пальцев, вежливых физиономий и т. д. За минусом вежливых физиономий, возможно, это было справедливо и для советской экономики. 
Замечание 4. А теперь о тех, кто всё же «ничего не делал и пил чай с тортиком» или занимался «общественной работой». Определённая кадровая избыточность не везде, но была. Объяснялась ли она тем, что «наклепали образованных, а девать их некуда»? Возможно, но вряд ли только этим. Многие из ветеранов прикладной науки могут вспомнить тот или иной период, когда задействованы в работе были все, включая всевозможных бездельников, обитателей курилок, «активистов месткомов» и т. д., причём задействованы по специальности и с ненормированным рабочим днём. Причина такой «полундры», как правило, была одна – некий вызов со стороны «Золотого миллиарда». Это могло быть всё, что угодно: новый истребитель, способ, удешевляющий производство чего-либо, прорыв в области медицины, модный предмет бытовой техники и т. д. В общем, нечто, на что необходимо было «дать ответ Чемберлену». Государство-завод по определению не может иметь в числе приоритетных все направления, но более того, оно может своей волей остановить развитие тех или иных тем, которые «представляются бесперспективными», в то время как в рыночной экономике какая-то «движуха» происходит в любом секторе, ибо даже с уходом инвестиций не случается 100% сворачивание работ. Отсюда неожиданные «удары».Плюс, повторюсь, соревнование шло между всем Большим Западом и всего лишь одной, хотя и очень крупной страной (наши сателлиты, во многих отношениях, не в счёт). Главный вывод: многие научные учреждения просто обязаны были иметь «на случай чего» определённый мобилизационный резерв, причём, непременно внутри структуры. Не призовёшь же учёного или инженера «из запаса», например, со стройки или из собеса, правда? Посланные начальникиЕсть в идеократии (подозреваю, что в любой) некая удивляющая особенность. Имея целью (по крайней мере, формально) реализацию определённого утопического проекта и не будучи способной реализовать его в полной мере (на то и утопия, что бы не учитывать извечные ограничения, накладываемые человеческой природой и прочими неотменимыми вещами), идеократия, тем не менее, в каждый из периодов своей истории воплощает какую-либо грань своего невозможного идеала с изрядной полнотой. Например, «Застой» считается многими (и вроде бы довольно аргументировано) временем разложения, «обуржуазивания» советского общества. Но это с одной стороны, а с другой этот период немногим менее радикален, чем время «военного коммунизма» и разных ВХУТЕМАСов. Присутствует в Левой отрицание Хозяина не только как владельца, но и как Главного, Того-Кто-За-Всё-Отвечает. «Трудящийся имеет право», «мы все здесь товарищи», «коллектив должен знать», «нет келейности в принятии решений», «демократический централизм» ну, и т. д. Ведь в «справедливом обществе» начальник – это просто диспетчер, который координирует добровольные усилия сознательных тружеников, не правда ли? Даже такие понятия как «лидер» и «авторитет» иными в этом идейном поле берутся под подозрение. Если учитывать это, становится понятным, почему многими леваками сталинизм почитается если уж не правой идеологией, то бастардной линией Левой. Правда, в теории, низведение «начальства» до сугубо координационной роли должно сопровождаться усилением рабочего самоуправления и тектоническими изменениями в сознании граждан. На то она и теория. Но я же утверждал: на каждом конкретном историческом этапе воплощается одна грань утопического «кристалла», а если несколько, то не связанных друг с другом. 
Как это выглядело? Приведу известную цитату, переводчик Дмитрий «Гоблин» Пучков «о веке нынешнем и веке минувшем»: «Радикальное отличие коммунизма от капитализма»: «прилюдно разбил физиономию», «сколько и куда было послано руководителей». Правда, это не столько отличие «коммунизма» (кстати, он достигнут был? не заметили?) от капитализма, сколько примета именно Брежневского времени. Период, предшествующий Застою (причём не только «сталинский», но во многом и «хрущёвский») породил спорный, порой неприятный, но яркий тип героя-руководителя, «железного наркома», харизматичного «генерала производства», «гениального конструктора» и их уменьшенных копий на местах, «послать» которых было делом и рискованным, и морально затруднительным. Хотя, теоретически они должны были быть трусливыми и сломленными, и в тем большей степени, чем выше было их положение. Однако, мы видим значительное (по крайней мере, не встречавшееся позднее) количество фигур исторического масштаба, сочетавших удивительную дерзость идей, работоспособность фанатика и личную выразительность на грани эксцентричности. Одно перечисление наиболее заметных имён займёт массу места и времени: Туполев, Ильюшин, Королёв, Мясищев, Лавочкин, Косыгин, Микоян, Янгель, Лихачёв, Поликарпов, Кошкин, Иванов, Яковлев, Шпагин, Антонов, Дегтярёв… Рождённые (преимущественно) в Российской Империи, чего только не пережившие за годы революции и гражданской воны, сделавшие блестящие карьеры в условиях жесточайшей борьбы. Впрочем, другого склада люди и не справились бы с такими задачами. Что, по моему мнению, составляло особенность той советской управленческой культуры, позволявшей достигать убедительных результатов? Тотальное огосударствление, мощь репрессивного аппарата стоящего за спиной каждого начальничка, идеологическая накачка граждан станы-фабрики? Отчасти и на определённом этапе – да. Но не только (и не столько) это. Эталонный советский начальник сталинско-хрущёвской эпохи должен обладать «харизмой», подтверждать своё право на власть демонстрацией собственной исключительности, прежде всего «преданности делу». Некоторыми это называлось «заставить себя уважать». Вам почти наверняка встречались расхожие выражения родом из той поры, наподобие «он был беспощаден к себе и потому требовал того же от других». Сложилась целая система знаков, посредством которых руководитель демонстрировал (или имитировал), что он «горит на производстве»: свет в окнах рабочего кабинета до полуночи, поздние (по сталинской моде) планёрки, постоянный обход/объезд «объектов», дотошное внимание к деталям и т. д. Быть может самое характерное в такой управленческой культуре именно вот это: уверенность в том, что главным объектом управления является, прежде всего, «трудовой коллектив», а не «процесс» или «бизнес», и требование бороться за уважение (а не просто за выполнение приказаний) подчинёнными, опосредованно предполагавшее признание за «простыми тружениками» права на неуважение, т. е. (в конечном итоге) право не «быть винтиком». «Уважением не пользуешься» – сам виноват. Причём, что важно, эта требование «борьбы за признание» было сформулировано не качестве моральной максимы (каковая легко подвергается эрозии), а в качестве «технологической аксиомы», «без этого ничего не получится» (сравните с современными опытами в области «корпоративной культуры» с её фетишем «лояльности работника», позволяющей занимать лидерские позиции любому ущербному социофобу с МВА). Откуда родом этот стиль управления? Возможно, из времён Гражданской войны, когда недостаток структурированности государственных институтов республики восполнялся харизмой и/или фанатизмом носителей новой власти. Позволю себе ещё одну длинную цитату. Кстати, каков слог у товарища комиссара, «нечто от культуры» (!), цивилизатор, однако. Нельзя сказать, что такое положение вещей никто не ставил под сомнение. В на свой манер замечательном и забытом ныне фильме «Старые стены» молодой главный инженер обращается к матёрой директорше: - Получается, что это мы от них (рабочих) зависим! - А ты хотел бы, что бы было наоборот? Правда, «для танго нужно двое», и для руководителя типа «отец-командир» нужен подчинённый типа «сын-солдат». Помните эпизод в фильме «Трактористы», в котором герой Крючкова, назначенный бригадиром, впервые появляется перед своими подчинёнными, механизаторами МТС? В бригаде бардак, перед новым начальством куражится уголовник-лайт (роль Петра Алейникова), но отставной танкист не теряется, а задорно демонстрирует своим коллегам, что он лучше их пляшет, лучше пашет и лучше разбирается в моторах. И они, проникнувшись к нему уважением, становятся передовиками производства. Здесь мы встречаемся с довольно примечательным, на мой взгляд, представлением о простом труженике, условно о «рядовом трактористе». Он может, например, работать спустя рукава или пить горькую, но в нём неприкосновенной сохраняется система ценностей, при которой честный труд, общее дело и т. д. – это нечто стоящее выше личных интересов и дурных пристрастий. Нужно её только пробудить, активизировать достойным примером и «всё наладится». Так сказать, «народ хороший, но не сознательный». Действительно ли советские начальники в массе своей исповедовали подобный сентиментально-снисходительный взгляд на «трудящихся»? Нет, конечно, по крайней мере, все виденные мною руководители «старой закалки» отличались чем угодно, только не доверчивостью такого рода. Но в них «крепко сидела» идея о связи власти и личной состоятельности (выражающейся иногда довольно причудливо), о тотальной ответственности за всё и молчаливое признание необходимости считаться с настроениями коллектива. В принципе, эта школа никогда не умирала окончательно. Еще я застал в начале моей трудовой биографии людей, которые учили нас, молодняк простым вещам вроде того, что нельзя быть сволочью или ничтожеством и претендовать при этом на не раз упомянутое уважение (а значит и на качественную работу) подчинённых. Нынешним менеджерам такая увязка представляется, как минимум, неочевидной. Где-то с пятидесятых в образе «отца-командира» акцент стал делаться на «отцовстве». В уже упомянутой ленте «Старые стены» директриса массу времени уделяет решению жилищных проблем рабочих и пенсионеров и с гордостью говорит: «Вот это, по плану здесь должна быть спортплощадка, а мы настоящий стадион построили, даже траву из Польши привезли. А вот это дом – таких в области всего три, специального разрешения в министерстве добивались». Отвлекаясь от темы, замечу, что совмещение ролей руководителя производства и устроителя социальной сферы имело довольно спорные последствия. Многие начальники ставили обеспечение трудящихся квартирами, детскими садами и прочим во главу угла и несколько забывали про качество и количество производимой продукции. Навязшее в зубах «Приходят на завод тысячи людей — строят себе базу отдыха, открывают новую столовую, озеленяют территорию, получают к празднику заказы… а включаешь – не работает». Так окончательно оформился идеал советского руководителя – харизматик-патерналист. Но все вышеперечисленные особенности, повторюсь, относились примерно к позднесталинской-раннехрущёвской эпохе. Где-то с конца пятидесятых доминировать постепенно начал другой тренд. В каком-то из фильмов той поры «правильный» секретарь парткома (или кто-то в этом роде) внушает своему «неправильному» другу, генеральному директору: - Ты думаешь, ты здесь главный?! - А кто?! – спрашивал директор, нахмурив брови и откинув со лба седую, непокорную прядь (оооочень характеристическая деталь – эта прядь непокорная) - Главный у нас – рабочий человек. – Веско произносит «партократ». Неплохо «рифмуется» со ставшим популярным именно в те годы «Войну выиграли не маршалы (подразумевалось «не генералиссимус»), а простой советский солдат». «Маршалы», надо полагать, только вредили. Что было причиной такого поворота? Полагаю, их было несколько. Во-первых, сама ставка на мрачноватых харизматиков-фанатиков, как я уже сказал, ведёт родословную из времён Гражданской войны. Во многом сам нрав этих людей служил генерации системы институализированного террора. В условиях «совсем мирного времени» их негибкость и невосприимчивость к переменам («эпоха НТР» и всё такое) становилась неудобной и даже вредной. К тому же руководители авторитарного склада беспрекословно подчиняются только таким же, как они, а «молокососов», «умников» и «кабинетных крыс» презирают. Во-вторых, новые поколения советских людей вырастали в поле тотального государственного влияния, и к ним доверие власти было куда больше. Соответственно созрели условия для перехода от де-факто оккупационной модели управления к «общенародному государству». Правда, время показало, что принятие «правил игры» и активная лояльность – это несколько разные вещи. Поясню, говоря об оккупационной модели, я не хочу никого «оклеветать». «Оккупация» начинается там, где к власти приходит группа, чьи ценности, цели, ментальность и стилистика незнакомы или чужды остальному населению, не укоренены в его культуре. С этой точки зрения «оккупационной» была власть и ленинской РСФСР, и ельцинской РФ, и петровской РИ. Со временем противоречия такого рода снимаются, происходит взаимная «притирка» «режима» и общества. В-третьих, то, что раньше требовало сверхусилий (например, упомянутое обеспечение рабочих жильём), с ростом возможностей системы становилось банальным. Так в начальственных кабинетах поселился серый человечек, «диспетчер». Я далёк от того, что бы полагать, что где-то в Кремле высоком сидели левацкие фанатики, которые решили воплотить свои горячечные мечты. Просто «логика развития системы» была такова. Вообще-то система, не нуждающаяся в героях и вождях, в мирное время выглядит куда устойчивей. Тот же СССР в каком-нибудь 1977-м казался несокрушимым и неуязвимым, деятельность любой оппозиции представлялась бессмысленной и «революционеры» превращались в «отказников» или «внутренних эмигрантов». Но удар от этой замены авторитетного и авторитарного начальника на скромного «ответработника» не заставил себя ждать – снизилась трудовая дисциплина, начала разрушаться система нематериального поощрения столь важная для социалистической экономики (о её воскрешении будет мечтать кое-что понимавший Андропов). Получение почётной грамоты или значка «лучший по профессии» из рук «генерала производства» – это награда, а из рук «кабинетной крысы» – бессмысленный ритуал, «много нам большого спасибо, нам бы маленькую сотню». Другим следствием был рост «блата», «кумовства» и взяточничества. Властность – двоюродная сестра аскезы, а лишённые воли к власти и чувства ответственности обитатели «тёплых кресел» были изрядными гедонистами, к тому же совсем не гордыми, им продаваться было не зазорно. Сместилось само понятие о власти, с главенства над массами людей акцент перешёл на «право подписи», право поставить закорючку и извлечь из этого свой скромненький гешефт. И право это в бюрократическом государстве не бывает умалено, даже если каждый возьмёт себе за правило не только по морде бить любого встречного начальника, но даже подвергать надругательствам с цинизмом и жестокостью. Очень здорово всё это повлияло на нашу дальнейшую историю. Нельзя сказать, что администраторы авторитарно-героического типа не были востребованы вовсе. Иногда без них никак, но как только «мавр делал своё дело», мавра «уходили». Был и механизм, позволявший реализовать не только лидерский азарт, но и коммерческую смётку – строительство, расширение производственных мощностей т. н. хозспособом, но поднявших на своих плечах большое дело старались отодвинуть от него подальше (иногда просто сажали, найти злоупотребления было не сложно), а сформировавшиеся в ходе такой работы команды «раскассировали» ибо там было «слишком много» осознания собственной коллективной исключительности. Меня можно спросить: «А ты, что против отхода от авторитарных методов управления? По барину соскучился?» Да нет, не против. И не соскучился. Просто начальник-диспетчер, «такой же работник как все» – это, так скажем, не совсем для реального мира. Поясню по пунктам. Первое. Принято некоторыми считать, что «люди не меняются», «все времена одинаковы» и т. п. Не все. Не во всякое время объяснишь, что такое «бюрократия обменяла власть на собственность». Как это власть, ВЛАСТЬ, В-Л-А-С-Т-Ь и – на, простите что? На собственность? Нееет, это не во всякое время поймут. Нужно было десятилетиями отбирать, выращивать этих сереньких гомункулов, которых всякий водила может послать на три буквы, что бы случилось то, что случилось в конце 80-х – начале 90-х, когда целые города-заводы уходили за модный галстук, за ящик импортного пойла, за несколько тысяч долларов, за коттеджик в тихом месте. Из того же корня и нынешние «эффективные менеджеры», которые относятся к подчинённым без намёка на естественный патернализм, а как к лузерам, которых они на пару кругов обогнали в гонке под названием «жизнь». Впрочем, признаю: во многом такая система, с легкопосылаемыми начальниками, симпатична, но – см. следующий пункт. Второе. Есть такой исторический анекдот, в старом смысле этого слова: То ли в 70-е, то ли в 80-е рухнула на одной из великих строек социализма плотина. Авария крупная, с последствиями. В Москве собирается совещание на уровне Совмина. Встаёт профильный министр, предлагает собрать комиссию для расследования всех обстоятельств, назначить её руководителем начальника строительства, которому и поручить подготовить отчёт и т. д. Поднимается Андропов (в другой версии Косыгин) и говорит: «А я предлагаю руководителя строительства отстранить от работы, исключить из партии и отдать под суд. Кто за это предложение?» В глубоком молчании все подняли руки. Так вот, иногда надо, что бы кто-то «отвечал за всё», дабы никакие плотины не рушились. Третье. Где-то (кажется у публициста Константина Крылова, приношу извинения, если ошибся) я встретил в воспоминаниях о событиях Августа 1991 года что-то про «пулемётный огонь, которым власть должна была усмирить толпу, разрушавшую собственное государство». Не очень приятно представлять себя, в ту пору восемнадцатилетнего, нашпигованным свинцом, но нужно признать: некоторое (причём, немалое) количество никем никогда не посланных «их благородий» (как в мундирах, так и в пиджаках) в государстве совершенно необходимо. Чтобы было кому командовать пулемётами, и, если нужно, вставать под огнём. А то будем всей страной слетать в кювет на каждом историческом повороте. Ведь и правда удивительно, как это так – в Союзе не нашлось десяти «генералов», что бы возглавить свой аналог «Ледового похода». Если представить события 1991-го на 30–40 лет раньше, можно не сомневаться – десяток директоров «под личную ответственность» (очень характерное выражение) вывели бы преданных лично им рабочих с арматурой в руках и утопили бы в крови любую революцию. Я пишу всё это, не скорбя по Советскому строю (умер «максим» ну и…), а пытаясь «вглядеться в будущее». Например, в то будущее, где у нас будет режим, который стоит защищать от любых «внутренних врагов». |
||
